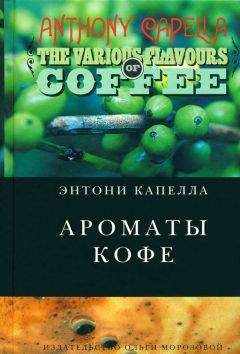Еще на дюйм внутрь, еще. Теперь она чувствовала, что трубка где-то в глубине горла и перекрывает ей дыхание. Эмили дернулась было головой из стороны в сторону, но молодой врач крепко держал руками ее затылок. Слезы лились у нее по щекам; она ощутила острую боль в трахее, и вот с заключительным болезненным толчком эта штука вошла ей глубоко внутрь.
— Достаточно, — сказал старший врач, отступая от кресла. Он тяжело дышал.
Врач надел на конец трубы воронку. Взявшись за миску с жидкой кашей, он стал вливать ее в воронку, подняв всю эту конструкцию как можно выше. Теплая, удушливая жидкость заполнила трахею Эмили. Она закашлялась, попытавшись отрыгнуть, но горячая вязкая жидкость не сдвинулась с места. Эмили казалось, ее голова вот-вот взорвется — давило на глаза, стучало в ушах, как будто ее опустили глубоко под воду.
— Пищи прошло достаточно, — сказал врач.
Трубку тянули у нее из ноздри долгим, мучительно болезненным движением. Едва трубку вытащили, Эмили вырвало.
— Надо повторить снова, — сказал врач. — Держите ее крепче.
И снова повторилась та же чудовищная процедура. На сей раз они подождали несколько минут, прежде чем вынуть трубку. Врач понес трубку в раковину; Эмили, закашлявшись, отплевывалась, давясь рвотными спазмами.
— Несите ее назад в камеру.
— Пойду сама, — сказала Эмили. — Вы просто ничтожная мелкая тварь, если позволяете себе так обращаться с женщиной.
— Ах, так вы считаете, что с женщиной все-таки стоит обращаться иначе? — презрительно бросил доктор.
— Настоящий мужчина никогда бы себе такого не позволил.
— Не стал бы спасать вам жизнь, хотите вы сказать?
И врач махнул женщинам, чтобы те забрали Эмили.
В ту ночь она устроила в своей камере пожар, разорвав подушку и забросав соломой газовый фитиль. Потом забаррикадировалась, подтащив под дверную ручку дощатую кровать и заклинив дверь, чтоб ее невозможно было открыть. Им пришлось выбивать дверные петли, чтобы проникнуть внутрь. После этого Эмили связали и поместили в камеру с железной койкой, прикрученной к полу.
В ту ночь и весь следующий день каждые десять минут к ней наведывались. Сначала Эмили решила, что заходят просто поглазеть, и кричала на пришедших.
— За вами положено зорко следить, — было холодно сказано. — Поручено смотреть, чтоб вы ничего с собой не сотворили.
В обед явилась смотрительница со стаканом молока. Эмили пить отказалась.
— Попробуйте выпить, хоть немного, — уговаривала смотрительница.
Эмили отрицательно мотала головой.
Теперь, испытав, что это такое, она с замиранием сердца ждала повторения процедуры. Когда за ней пришли, чтобы снова отправить ее к врачу, она уже была сама не своя от страха. Но поделать ничего было нельзя. Врачи уже сообразили, как себя с ней вести, и трубку вводили быстро. Эмили заплакала от боли, слезы смешались с рвотой и кисловатым запахом каши. И она потеряла сознание.
Когда Эмили пришла в себя, врач с тревогой смотрел на нее.
— Лучше бы вас стошнило, — сказал он. — Вы женщина слабая, вы не приспособлены для таких операций.
— А есть приспособленные? — с горечью спросила она.
— Вы не привыкли к грубому обращению. Оно может пагубно сказаться.
— Вы же врач. Могли бы этого и не устраивать.
— Никому вы не нужны, — внезапно бросил он. — Это просто непостижимо! Вы сидите в тюрьме, такое над собой проделываете, а там, на воле, никто и ни малейшего понятия не имеет. Зачем тогда все это?
— Чтобы показать, что ваша власть распространяется только на тех, кто вам это позволяет…
— Избавьте меня от своих лозунгов! — Врач махнул надзирательницам. — Уведите ее.
Когда ее вели в камеру, одна из женщин тихонько шепнула:
— Они снимают налог с моего жалованья, по-моему, это неправильно, что я не могу голосовать. — Она украдкой взглянула на Эмили. — А вы молодец, храбрая.
— Спасибо, — тайком шепнула Эмили.
— И еще, это все неправда, что он вам сказал. О вас пишут во всех газетах. Без подробностей, но народ знает, что тут происходит.
В ту ночь у Эмили не получалось нормально дышать — что-то мешало в трахее, как будто там застрял сгусток крови. Потом ее снова вырвало, и она обнаружила в рвоте кровавые прожилки.
На следующий день у нее уже не было сил видеть эту трубку. Эмили взяла из рук смотрительницы стакан молока, съела немного супа. Но потом возобновила голодовку.
Я чистил в своем кафе кофеварочный аппарат, когда явился ее муж. Была середина утра — время тихое. Думаю, он намеренно выбрал эту пору.
— А, так вот где вы, Уоллис, распространяете свой яд, — произнес чей-то голос.
Я поднял глаза:
— Если вы имеете в виду мой кофе, он наивысшего качества.
— Я не ваш кофе имею в виду. — Он положил на стойку свою шляпу. — Я пришел поговорить с вами о моей жене.
— Ах, так!
Я продолжал свое занятие.
— Врачи сказали, что если она продолжит голодовку, это убьет ее.
— Это те самые, которые прежде объявляли ее истеричкой?
— Нет, другие. — Он помолчал. — Ее поранили. Попытка кормить ее насильно обернулась неудачей. Видимо, они повредили ей легкие.
Потрясенный, я уставился на него.
— Нам необходимо вызволить ее из тюрьмы, — сказал он. — Или хотя бы отвести от нее опасность.
Наконец я обрел дар речи:
— Так убедите же свое правительство предоставить женщинам право голоса!
— Вы же знаете, это не произойдет никогда.
Он провел рукой в перчатке по волосам. Внезапно я заметил, какой измученный у него вид.
— Правительство никогда не уступит. Кроме всего прочего, это будет превратно понято нашими недругами. Империя должна оставаться несокрушимой, но есть еще силы в Европе, которые готовы воспользоваться нашим внутренним кризисом… То, что делает Эмили, опасно для всех нас.
— Зачем вы мне все это говорите?
— Потому что вас она может послушать, даже если к моим просьбам остается глуха.
Я подумал: должно быть, ему стоило немалой смелости или, по крайней мере, железных нервов, чтобы прийти сюда.
— Сомневаюсь, — сказал я, качая головой.
— Но вы должны попытаться!
— Если я правильно понял, не она пожелала, чтобы ее отговаривали?
— Вы любите ее?
Было странно говорить об этом, и в первую очередь с ним. Но момент был необычный.
— Да, — ответил я.
— Тогда помогите мне ее спасти. Напишите ей, — не отставал Брюэр. — Скажите, что довольно с нее протеста, теперь в борьбу могут вступить и другие. Скажите ей, что вы не хотите, чтобы она пускала под откос всю свою жизнь.
— Если я ей такое напишу, — сказал я, — и мое письмо ослабит ее решимость, она мне этого никогда не простит.
— Но это просто необходимо сделать. Ради нее самой, пусть не для нас. — Он взял свою шляпу. — Есть еще нечто, что вам надо бы знать. В правительстве поговаривают о принятии нового законопроекта. Это позволило бы им на законном основании выпускать из тюрем тех, кто начинает голодовку.
— Для чего все это? — озадаченно спросил я.
— Разумеется, для того, чтобы голодающие не умирали в тюрьмах!
— Но ведь если они их выпустят, те выйдут на свободу и создадут еще большие волнения в народе?
— Только, если у них сохранится здоровье. И если оно у них сохранится, то их арестуют снова, и они снова попадут в тюрьму. И тогда, если они умрут, то умрут не как жертвы в тюрьме, а в больнице как инвалиды. Так что, как видите, ее протест в конечном счете ничего не изменит, даже для ее движения. Вы должны написать ей письмо. Вы напишете ей?
— Не могу вам обещать. Я подумаю над этим сегодня….
— И последнее, — перебил он меня. — Если вы убедите ее прекратить все это, я дам ей развод.
— Не думаю, что ей нужен развод, — медленно произнес я.
— Напротив, он ей нужен. Но я не с ней говорю об этом. Я говорю с вами. — Он смотрел на меня без тени волнения. — Если вы сможете убедить ее жить, Уоллис, она — ваша. В снимаю с себя ответственность за нее.
Он ушел, а я раздумывал над тем, что он сказал. У меня не было ни малейших иллюзий в отношении его мотивов. Хотя я не сомневался, что по-своему он любит Эмили, Брюэр принадлежал к такому типу людей, для кого любовь неотделима от его собственных интересов. Если все, что он сказал мне, правда, и Эмили обречена, это могло бы выставить его в дурном свете. Тогда сказали бы то, что сказал и я, — он позволил своему правительству убить собственную жену, в то время как все видел и бездействовал. В таком случае ему лучше всего бы с ней развестись.
Брюэр был политик: он нашел наилучший способ воздействия на меня. Что не умаляло очевидного: он был прав. Мое письмо, где бы я убеждал Эмили верно найденными словами, что она и так уже много сделала, смогло бы поменять ее решение. Пусть она упряма, но я слишком хорошо знал ее, чтобы найти для доводов верные слова.