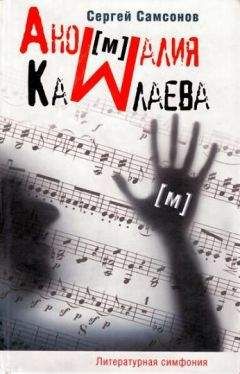Камлаев рассказал Артуру Подошьяну о своем интересе к эпохе 20—30-х и к личности пролетарского писателя Платонова. Подошьян ответил: «А давай работать с этим вместе». Они двигались параллельно; Подошьян сперва ушел вперед, а Камлаев топтался на месте, изобретая такую неправильную музыку, в которой бы мычание переходило в высшую внятность. Он молча следил за монтажной работой Артура, который показывал ему демонстрации и марши, строительство сталелитейных заводов и прокладку железных дорог, военные марши народившейся Красной армии и прибытие первого трактора в голодающий колхоз. Перед глазами проходила череда разнообразных лиц: крестьяне в опорках и длинных холщовых рубахах, шахтеры, похожие на негров из-за въевшейся угольной пыли, чекисты, которые сопровождали в Сибирь колонны раскулаченных крестьян в опорках и длинных холщовых рубахах, рабочие, которые несли праздничные транспаранты, глядели в небо на самолеты с именами Сталина и Горького на размахе крыльев. Камлаев смотрел, как женщинам преподносят цветы и как дергается от выстрела в затылок мгновенно опустевшая голова, из которой только пулей можно выбить неподвижность буржуйской заразы. Камлаев смотрел на то, как сотни похожих издали на муравьев людей зарываются в землю, создавая грандиозный котлован, и с какой остервенелостью они орудуют лопатами — люди с ясным безмыслием веры в глазах. Лопаты в их руках мелькают с невозможной скоростью — швырок за швырком, десять, двадцать, пятьдесят движений. Перед глазами Камлаева проносились паровозы. И голые по пояс кочегары лопату за лопатой швыряли черный уголь в топки. Ему хотелось сделать музыку, похожую на этот несущийся паровоз, такую, что стала бы беспрерывным и неустанным нагнетанием скорости, движением на пределе, работой до хруста в костях, до разрыва мышечных волокон. Ему хотелось сделать музыку, похожую на бесконечную выносливость людей. Он хотел поймать этот не дающийся слуху ритм — ритм неистового ускорения, ритм горячей веры в то, что законы смерти будут побеждены и мировая справедливость достигнута, нужно только не щадить себя и бросать себя в топку как уголь.
И вот в одну счастливую минуту Камлаев заиграл на пробу новую музыку. И вдруг весь мир вокруг него стал твердым, непримиримым: как будто сама тяжесть законов необходимости и смерти, косность самой равнодушной природы сопротивлялась героическому усилию людей. А осмысленно-ясная сила пролетарской веры возвышалась к небу и крушила со скоростью звука своего тупого, каменного врага, который занимал мертвым телом пространство, бесконечное, как сама природа. И в этом столкновении звучание превращалось в вопль взаимного остервенения, но сквозь злобу все же пробивался с неослабной и упрямой внятностью учащенный ритм горячего человеческого сердца.
«Есть! — сказал Камлаев, торжествуя. — Мои руки лишь будят рояль, а дальше он сам продолжает. Вокруг нас уже не темное, безответное существо природы, с которым невозможно установить родственного согласия».
И вот настал тот день, когда он собрал всех своих оркестрантов.
— Авангард зашел в тупик, — объявил он. — Сериальный принцип умер вместе с Шенбергом, а мы, наивные дураки, в своем провинциальном музыкальном захолустье этого не заметили. Апокалиптически диссонансная фактура давно превратила Армагеддон в нестрашную обыденность. Не только безделки Моцарта, легко и беззаботно свистящие мимо ушей, но и нынешние непонятные, сложные эксперименты стали или станут всеобщим достоянием. Ленинградскую симфонию — да, пожалуйста. «Плач по жертвам Хиросимы и Нагасаки» — пожалуйста. Хотите получить уютный образ вселенской катастрофы? Услыхать рев и звоны новейшего атомного Апокалипсиса? Пендерецкий и Шнитке к вашим услугам. Скоро эти атомные вихри и напряженные, вибрирующие трели скрипок, задранных в самый верхний регистр, станут точно такой же бессмысленной этикеткой, как и «солнце русской поэзии» — Пушкин, как и свадебный Мендельсон. Бескомпромиссная хаотичность звучания и так называемая оригинальность — совсем не одно и то же. И уж тем более хаотичность, «вызов формы» не равнозначны свободе. Вместо того чтобы истязать, кастрировать слух насильственным ограничением, не лучше ли дать ему погрузиться в свободно струящийся звуковой поток, каким тот существует в природе? Музыка не в состоянии лишь царапать и скрежетать, пусть и в структурно оформленном виде. Ну, вот чем мы занимаемся, какую музыку мы делаем? Мы занимаемся чувственным оформлением своих представлений о мире и отражаем напряжение, ужас, гудение и железную поступь безразличной к человеческой единице истории. Иными словами, мы выражаем нашу собственную несвободу, несвободу в этом мире, несвободу на всех существующих уровнях — от прямой необходимости повиноваться требованиям социума, маршируя со всеми в ногу, до невидного, тонкого насилия над сознанием. Одним словом, мы играем человеческую музыку о человеческих представлениях. Но поскольку несвобода тотальна, стать свободным в рамках человеческой музыки невозможно. В рамках музыки представлений и личностных переживаний стать свободным невозможно. Нам подсовывают музыку личностных переживаний точно так же, как человеку подсовывают готовый способ поведения под видом якобы свободного выбора, в то время как на самом деле выбор исключает свободу…
— То есть как это? — усмехнулся Голубев.
— А вот так. Какая свобода может быть при том, что тебя постоянно заставляют выбирать между официальным музицированием и авангардным подпольем? Запад выбирает между пепси и колой, между обществом потребления и так называемой контркультурой, а мы здесь, в Союзе, тоскуем от невозможности подобного выбора. Ты будешь дергаться в тисках выбора, колеблясь между актом потребления одного товара и актом потребления другого, да так и не сделаешь выбора, потому что оба этих акта равноценны и ничего не дают ни уму, ни сердцу. Ты будешь колебаться, а небо над твоей головой все это время будет свободно. Небо, любовь, деторождение, хлеб не выбирают, их нельзя предпочесть чему-то другому, потому что им нет аналога, варианта… В своей первичности они незаменимы. И в музыке все совершенно точно так же. Зачем выбирать между техникой и техникой, между одним представлением и другим представлением? Когда на самом деле есть только одна основная, изначальная музыка, которая звучит в этом мире безо всякого учета человека и без всякой на то его воли.
— Это ты о музыке сфер?
— Ты можешь называть ее как угодно. Предположим, некий общий природный ритм пронизает все сущее. Вот растения — предположим, это не трудно, что растения чувствуют, мыслят, постигают. Ну, просто растет какой-нибудь чертополох и совершенно точно знает свое место в общем миропорядке, только чванливый, самонадеянный человек не знает, в то время как на самом деле он никакой не венец творения, а всего лишь лютик без разума, мать-и-мачеха без языка. Все то, что растет, цветет и пахнет, воспроизводит одну звуковую модель.
У Камлаева выходил многослойный, тягостный, почти невыносимый полиаккордный сплав; открываемый им звуковой мир не знал непрерывности, плавности, однородности. Высотную шкалу он строил как систему из взаимоисключающих звуковых пластов. Иначе и нельзя было озвучить рождение той новой реальности, которую описывал Платонов. Вертикаль составлялась им из отдельных высотных секторов, каждый из которых был обозначен аккордом как будто из другой тональности. Тонально-аккордовый контраст создавал впечатление акустической близости «далековатых понятий» и, напротив, максимальной удаленности друг от друга значений близкородственных. Ухваченное им в книгах пролетарского писателя ощущение скованности — ленивого ворочания распухшего языка — и вместе с тем разрывания всех пут — распрямления в полный рост — передавалось напряженно, трудно звучащими инструментальными регистрами, максимально неудобными для исполнения. Каждый голос в этой новой партитуре пел на грани собственных возможностей, на пределе высоты и громкости. Но сила ритмического напора — «все выше, и выше, и выше» — была такова, что предел человеческих возможностей многократно преодолевался (подобно тому, как превышали его платоновские пролетарии, чьи кости легли на дно коммунистического котлована) и черта исчерпания сил оставалась далеко позади.
Помыслить о том, чтобы кто-то в Союзе предоставил в его распоряжение студию звукозаписи, было невозможно. Год назад он еще нашел бы способ переслать партитуру в Берлин или Лондон, пусть запишут там, но сейчас все каналы отправки на Запад ему перекрыли, и если бы его теперь поймали на попытке переправить за кордон что-либо, дело бы одним лечебно-трудовым профилакторием не ограничилось, речь пошла бы уже о лишении гражданства. Но, прожженный хитрец, он, недолго думая, уговорил Артура дать будущему фильму циничнейшее название — «Путями великих свершений»; на обязательном худсовете подошьяновские «Пути…» были утверждены и запущены в производство, что же касалось музыкального сопровождения фильма, то вчера еще опальный, а ныне вставший на путь исправления режиссер утверждал, что использует фрагменты из концерта «Под знаменем Великого Октября» молодого композитора Альберта Тулянинова. Штука в том, что Тулянинов существовал в действительности и тихо-мирно сочинял себе «Первомайские» симфонии, столь банальные и жалкие, что даже благонадежность темы не искупала художественного убожества, и дорога в столичные концертные залы была этому первомайскому творцу закрыта. Концерт «Под знаменем Великого Октября» был действительно этим Туляниновым написан, и насколько же изумился провинциал Альберт, когда узнал, что в Москве вдруг ни с того ни с сего озадачились судьбой его сочинения. Он, конечно же, изъявил готовность немедленно приехать в столицу. А как его в столице встретили, как повели его сразу в «Узбекистан», в «Будапешт», «вы сочинили гениальнейшую вещь, позвольте за это выпить»… и вот уже Тулянинов, сам не заметив, погрузился в пучину запретных удовольствий: вот какие-то расхристанные, полуголые девки волочат его с визгом, обомлевшего, за собой, вцепляются в галстук и рвут на груди рубашку… Так все восемь дней, в которые продолжалась запись «Великого Октября», Тулянинов не приходил в себя и в конце концов, растроганный до слез и с нешуточным гонораром в кармане, отбыл на родную киевщину.