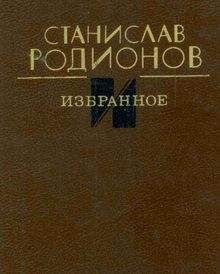С полчаса они топтались под доской с шашечками. Когда сели в машину, Лида вдруг засмеялась и прильнула к нему:
— Ну и сумасшедший! То домой не идет, а то гулять ночью придумает…
Рябинин промолчал. Может быть, он и был в эти дни сумасшедшим. В конце концов человек, захваченный до мозга костей идеей, — разве не сумасшедший? И разве страстная мысль не похожа на манию? Работать сутками без приказа, без сверхурочных, премиальных и благодарностей — не сумасшествие? Да и что такое «нормальный»? Человек, у которого все аптечно уравновешено и на каждый минус есть свой плюс? Кто стоит на той самой золотой середине, которую любит обыватель и ненавидит Рябинин?
— Куда поедем? — спросил шофер.
— В аэропорт, — ответил Рябинин и пугливо глянул на жену.
***
Аэропорт не спал. На летном поле ревели реактивные самолеты, наверное прогревали моторы, но со стороны казалось, что изящно-могучие машины обессилели, не могут взлететь и только надрывно кричат, как раненые звери.
— Чувствуешь, тут ветерок, — сообщил Рябинин, — все-таки мы за городом.
С летного поля несло гарью. Лида взглянула на мужа. Он тут же перебил ее вопрос:
— Смотри, садится!
Самолет снижался, наплывая в темноте цветными огнями. Казалось, он сейчас покатится перед ними, но самолет куда-то нырнул за ангары, за темные силуэты хвостов, за лес самоходных трапов. Рябинин потащил Лиду к проходу, через который выпускали прилетевших.
Пассажиров сначала подвозили к стеклянному параллелепипеду — багажной. Но она стояла за проходом, практически на летном поле, и туда встречающих не пускали. При желании пройти можно: скажем, помочь вынести чемодан. Но там-то, в багажной, как узнать имена родителей, которых даже в паспорте нет. И в багажной Петельников уже посидел, изучив жизнь ее работников, как четырехправиловую арифметику. Багажная отпадала.
Рябинин повел жену в один зал ожидания, потом во второй, потом в третий… Они терпеливо перешагивали через ноги дремавших пассажиров. Но Кузнецова и Гущина сюда не заходили. И все-таки здесь преступница получала информацию.
— В четвертый зал пойдем? — спросила Лида.
Рябинин быстро глянул на жену: ни упрека, ни иронии, ни усталости.
— Пойдем в кафе, — предложил он.
Она пошла безропотно, будто у него в кабинете час назад ничем не возмущалась. Он знал, что Лида сейчас его безмолвно утешает, — она умела утешать молча, одним присутствием.
Они взяли крепкого чаю и горку сосисок — ему. Рябинин осматривал зал, механически жуя резиновую колбасу.
— Целлофан-то сними, — засмеялась Лида.
Кафе было огромное, современное и деловое, как и сам аэропорт. Здесь, видимо, не засиживались и не застаивались. И здесь пили только кофе и чай. Нет, это не то место, которое он искал. Рябинин даже перестал жевать — разве он искал какое-нибудь место? Он просто хотел побродить там, где, ему казалось, и произошла завязка. Бродил без плана, без логики, по воле интуиции и фантазии — авось это поможет мысли.
— Сережа…
— А?
— Пока ее не поймаешь… ты не вернешься?
— Как? — не понял Рябинин. — Мы сейчас пойдем домой…
— Это ты свое тело повезешь домой… А сам будешь здесь или с той, которую вы ловите, — вздохнула она.
— Лида… — начал было Рябинин.
— Молчи, — приказала она. — Даю тебе три дня на поимку этой ужасной женщины.
— Три дня, — усмехнулся он. — Может, и трех месяцев не хватит.
— Зачем себя так настраиваешь? Вспомни, другие-то дела раскрывал. Да и не одно.
Другие дела раскрывал. Но те дела уже казались легкими, а последнее дело всегда самое трудное. Лида утешала его — теперь словами. Женщины-утешительницы… Мужчине нужна любовь, семья, дети, секс, обеды и все то, что связано у него с женщиной. Но каждому мужчине, даже самому сильному, а может быть сильному мужчине тем более, нужна женщина-утешительница.
— Сережа, если ты будешь так переживать, то дай бог, если дотянешь до сорока лет, — сообщила Лида.
— А как же пенсия? — спросил он и увидел за столом двух инспекторов уголовного розыска, которые тоже ели по тарелке сосисок. Значит, ведомство Петельникова крутилось в аэропорту денно и нощно. Но вслепую здесь ничего не сделаешь, — тут нужно догадаться.
Рябинин вспомнил, как однажды они с Петельниковым искали преступника, о котором только знали, что номер его домашнего телефона кончается на цифру 89 — в шестизначном номере. Работа шла интересно и споро, а было ее немало. И раскрыли.
— Пойдем, Лидок, домой, — предложил Рябинин, оставляя недоеденные сосиски, — Тебе же завтра на работу.
— Завтра суббота, Сережа.
— Да?! — удивился он.
Что-то в его «да» она услышала еще, кроме простого «да». Лида рассмеялась почти весело, будто он сострил:
— Так сказал, словно страшней суббот ничего нет. Обещаю завтра тебя не держать.
— А мне как раз некуда идти. Я теперь могу работать дома — сидеть и мыслить.
— Чудесно. Будем вместе мыслить. А куда мы идем?
Он опять привел жену к воротам прибытия. Рябинина тянуло к ним, словно его подтаскивал туда один из тех могучих реактивных двигателей, которые стояли на самолетах. Увидит он этот проход с дежурным, и спустится на него озарение, наитие, откровение, хоть глас боЖий — вот что ему надо в аэропорту. Но оно даже не блеснуло, даже зарницы этого озарения не вспыхнуло.
От ворот прибытия вела широкая асфальтированная пешеходная дорожка, обсаженная молодыми липками — метров двести. Упиралась она в стоянки: справа такси, слева троллейбусы. Вот и весь путь потерпевших.
Улетавший человек бродит по залам и кафе, а прилетевший сразу идет по этой аллейке к транспорту.
— Пошли, Лида, — вздохнул Рябинин.
Конечно, чтобы найти брод, приходится много оступаться. Известно, что путь к истине усеян не только открытиями. Ошибки — тоже путь к истине. Но только одни ошибки — разве это путь?
***
Домой они пришли в два часа. Кажется, не светилось ни одно окно. Но уже светилось небо, на котором луна казалась бледной и немного лишней. Рябинин выпил еще две чашки крепкого чаю и уставился на эту самую луну.
— Спать будешь? — осторожно спросила Лида.
— А как же, — бодро ответил Рябинин, — Чтобы завтра встать со свежей головой. Только постели мне в большой комнате, на диване, а? А то буду ворочаться, тебе мешать…
Лида усмехнулась. Она подошла и обвила тонкими руками его шею. Руки с улицы были прохладными, как стебли травы в лесной чаще. Она бы могла ничего не говорить, но она не удержалась — поцеловала его легким радостным поцелуем.
Рябинин пошел в большую комнату, разделся, лег на диван и уставился очками в потолок. И сразу повисло медленное время, будто сломались все часы мира и солнце навсегда завалилось за горизонт.
По каждому «глухарю» в уголовном розыске обычно накапливались кипы разного материала. И всегда было несколько человек подозреваемых, которых он отрабатывал, отбрасывал одного за другим, пока не оставался последний, нужный. Но по этому делу и подозреваемых-то не было. Хоть бы кто анонимку прислал…
Казалось, он перебрал все варианты. Петельников проверил всех лиц, которые так или иначе связаны с потерпевшими; опросил всех работников аэрофлота, которые работали в те дни.
И ничего — как поиски снежного человека. Петельников все делал правильно, но вот он, Рябинин, в чем-то допускал просчет. Видимо, надо отказаться от заданного хода мыслей, изменить ракурс, что ли… Подойти к проблеме с другими мерками, с другим методом. Но где взять этот метод?
Рябинину показалось, что он задремал. Небо еще темнело, луна висела там же — в углу большого окна. И тишина в доме не скрипела паркетом и не гудела лифтом. Значит, еще глубокая ночь, которой сегодня не будет конца.
А если она узнавала фамилии потерпевших — это все-таки можно узнать в аэропорту, — звонила по телефону в Ереван или в Свердловск знакомой и просила найти по справочному имена и адрес родителей… Боже, как сложно, а потому нереально.
Если допустить, что встречающие их… Но их не встречали.
Рябинин сел на своем диване. Ему хотелось походить, но чертовы паркетины расскрипятся на весь дом. Может, и правда начать курить — и красиво, и модно, и, говорят, помогает. Он знал, что ему сейчас необходимо переключиться на что-нибудь постороннее, тогда нужная мысль придет скорее. Но он не мог — его мозг был парализован только одной идеей.
Он все-таки встал и тихонько подошел к окну. Нет, луна чуть сдвинулась, даже заметно съехала к горизонту.
Рябинин никогда не делился своими неприятностями с людьми — даже Лида знала только то, что видела. Ему казалось, что посторонним людям это неинтересно. А людей близких он не хотел обременять — нес все беды и заботы на себе, как гроб. Поэтому бывал одинок чаще, чем другие. И сейчас, разглядывая небо, он вдруг хорошо понял волка зимой, севшего ночью на жесткий голубоватый снег где-нибудь под треснувшей от мороза сосной и завывшего на желтую опостылевшую луну. Иногда и ему, как вот сейчас, хотелось сесть на пол и завыть.