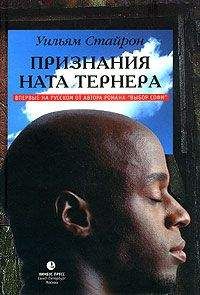Нет, Билл, править бал буду я! — вклинился, наконец-то, и мой голос. Негры смолкли. — Давай-ка с этим сразу разберемся. Ничем ты тут не командуешь. А зеркало брось на землю. Белые его за две мили увидят. Ты слышал, что я сказал?
Сверху, с коня, он надменно и уничижительно оглядел меня. Не в силах с самим собой ничего поделать, я чувствовал, как колотится у меня сердце, да и голос сорвался, обнаружив страх. Напрасно старался я унять дрожь, явственно сотрясавшую плечи и руки. Шло время, Билл молчал, устремив на меня презрительный взгляд. Потом он высунул язык, красный, как ломтик арбуза, и долго, медленно, вкруговую облизывал им губы, после чего потрепетал в воздухе его кончиком — жест издевательский, шутовской, грубый, жест насмешки дебила. Некоторые из бойцов принялись хихикать, от удовольствия пошаркивая ногами.
Я вовсе не обязан отдавать тебе зеркало, — сказал он угрожающим, мрачным тоном. — И не отдам. И пошел ты в задницу, Проповедник!
Брось зеркало на землю! — приказал я вновь. В ответ он с неприкрытой угрозой лишь крепче сжал ладонью рукоять топора, и меня накрыло ледяной волной страха. Воочию я видел, как горит огнем дело моей жизни — горит и рассыпается в прах, сжигаемое пламенем, исходящим из мертвенных глаз безумца. — Бросай, — повторил я.
Слышь, ты, Проповедник! — насмешливо протянул он и комически повращал глазами, обернувшись к новичкам. — Мастер книги и пера, ты б лучше отошел в сторонку, а командовать предоставил мастеру ножа и топора. Потому как, проповедник ты наш, с армией управляться потрудней будет, чем с топором, а ты и с ним не справляешься. — И он со зловещим намеком поддернул вверх густо заляпанное кровью топорище, а зеркало, поставив на луку седла, по-хозяйски заботливо прижал к себе. — Слышь, человек Божий, — вновь заговорил он уже откровенно угрожающим тоном, — либо ты научишь свой топор песни петь, либо тебе конец.
Не знаю, чем бы это кончилось, не вмешайся в этот момент Нельсон, на время прервавший противостояние, которое чуть не погубило меня. Возможно, другие мои верные последователи выступили бы в мою поддержку, и мы продолжили бы поход в том же духе, что замышлялось. А может, Билл прикончил бы меня на месте, и все войско под командованием безумца устремилось бы в тартарары; вне сомнения, без учета стратегического плана, который целиком был у меня в голове, далеко бы оно не продвинулось, так что дело ограничилось бы “беспорядками местного масштаба”, а участвовали бы в них “немногие озлобленные цветные”; не было бы и намека на катастрофу, настоящее землетрясение, которое мы устроили белым. Но Нельсон спас положение, в критический момент облекшись в мантию власти, которой — в глазах Билла, по крайней мере — мне то ли недоставало, то ли я владел ею не по праву. Понять не могу, как у него это получилось, как он околдовал Билла. Может быть, дело в возрасте Нельсона, в его манере вести себя — говорить лаконично, весомо и обстоятельно, с видом совершенной уверенности, полнейшего самообладания и умудренности жизненным опытом; он держал себя с нами отчасти по-отцовски и каким-то алхимическим соединением всех своих черт снискал, должно быть, у безумца Билла уважение, если не страх. Не успел я понять, что между нами встал Нельсон, как послышался знакомый голос, и вот Нельсон уже держит его коня под уздцы.
Уймись, уймись, дорогой, — довольно резко произнес он. — Нат у нас первый заводила, ему и править! А ты уймись и брось это зеркало наземь!
Он говорил примерно так, как увещевают любимое, но очень уж упрямое дитя — тоном беззлобным, но сердитым и обеспокоенным, суровым и никоим образом не допускающим возражений. На Билла его слова подействовали, как удар палкой: Брось, я сказал, — прозвучало еще раз, и пальцы Билла разжались, зеркало выскользнуло и, не разбившись, упало под ноги.
Все ж таки Нат пока что наш генерал, — сердито проскрипел Нельсон, устремив нахмуренный взгляд вверх. А тебе следует зарубить это у себя на носу, дорогой мой, а не то у нас с тобой и впрямь получится заварушка!. И остынь, наконец уже, остынь, горячая голова!
Засим он отвернулся и вперевалку заковылял под деревья, к костру, оставив Билла должным образом вразумленным, помрачневшим и сконфуженным.
Однако, несмотря на то, что опасное обострение миновало, я не мог чувствовать себя в безопасности. Я был уверен, что пугающая нацеленность Билла на захват власти никуда из-за такой ничтожной неудачи не денется, просто, наткнувшись на преграду, он дал мне передышку, зато во мне его жесткие, презрительные слова — по сути дела брошенный мне вызов — посеяли настоящую панику, поскольку я-то убедился уже, что и впрямь убить неспособен. Из остальных моих бойцов один лишь Нельсон до сих пор не проливал крови, но не потому, что уклонялся от этого, а просто ему пока не представился случай. Что до других ближайших сподвижников — Генри, Сэма, Остина и Джека, то тут воображение стало надо мной подшучивать: мне начало казаться, будто последние несколько часов в их общении со мной сквозит холодность, в обращенных ко мне словах зазвучали нотки подозрительности, недоверия и отчужденности, как будто не сумев — хотя бы ритуально — ступить за тот рубеж, который перешел каждый из них, я начал утрачивать их уважение, да, кстати, и право командовать ими. Никогда — ни день, ни неделю назад, я не говорил, что мне позволено будет увиливать от выполнения общего долга. Не я ли многажды поучал их: Пролитие крови белого человека — святое дело в глазах Господа! Теперь же из-за своего бессилия и нерешительности я должен был не только терпеть бесстыжие колкости и угрозы Билла, но и опасаться, как бы даже они, эти самые преданные мне люди, не утратили веру в мое главенство, если я по-прежнему, как последняя баба, неспособен буду смертельно поражать белую плоть.
На поляну опустился палящий жар; еще один дрозд заверещал в изобилующем живностью лесу. С разламывающейся от боли головой я незаметно отошел, чтобы в кустах предаться бесполезным попыткам что-нибудь из себя выблевать. Я чувствовал себя смертельно больным, к тому же казалось, будто кто-то другой, засев внутри меня, обмирает и трясется в горячке. Но часов в девять или около того я вернулся и присоединился к войску. В таком вот состоянии — дрожащий, больной, разрываемый на части опасениями и предчувствиями, от которых, вопреки всем надеждам, Господь не берег меня, — я оказался без промедления брошен судьбой навстречу Маргарет Уайтхед... на последнюю нашу встречу.
Ричарду Уайтхеду, застигнутому нами на пути в курятник и одиноко застывшему под жарким утренним солнцем на зеленой хлопковой полосе, наше приближение показалось, должно быть, чем-то вроде явления всадников Апокалипсиса. Двадцать с лишним негров нагрянули со всех сторон, конные, сверкая топорами, саблями и ружьями, вылетели из лесу в туче пыли, которая, скрывая нас самих, обнаруживала жестокую нашу устремленность и замысел, а ему, наверное, казалась дьявольским извержением земной клоаки; конечно же, это зрелище явилось воплощением всех его страхов, всех тревожных видений — от черных дьяволов до языческих орд, угрожающих его методистскому священству. Ну так и он тоже, подобно Тревису, да и всем остальным, усыпленным самой историей, тем, что прежде она не знала ничего подобного, без сомнения, просто не верил своим глазам, когда другою частью сознания уже боролся с ужасом, и кто знает, не в этом ли причина, почему он стоял, будто врастая ногами в землю на хлопковой полосе и в замешательстве подняв при нашем приближении благостное лицо к небесам в надежде, может быть, что демонические призраки, привидения или кто бы они там ни были — возникшие в результате несварения из-за плохого бекона или вследствие дурного сна на августовской жаре, или того и другого вместе — растворятся и исчезнут. Уж воистину, дивился он удивлением великим. А какой стоял гром: бьют копыта, бряцает сталь, пыхтят, задыхаются кони, гиканье, крики, и все ближе и ближе черные ухмыляющиеся рожи! Господь всемилостивый! Такой гром не производят привидения; да уже и переносить его еле возможно! Он поднял руки как бы затем, чтобы прикрыть уши ладонями, куда-то дернулся, переступил было ногами и, не делая других движений, в ошеломлении стал неподвижно, меж тем как двое всадников, Харк и Генри, заслонили его с двух сторон и, замедлив бег лошадей лишь настолько, чтобы ловчей ударить, двумя взмахами сабель разнесли в куски ему череп. Из дома послышался женский крик.
Первый эскадрон! — крикнул я. — В лес не пускать! — Только что я заметил, как из винокурни выскочил новый управляющий по фамилии Претлов и двое его молодых белых помощников; все они кинулись к лесу — мальчишки бегом, а Претлов верхом на увечном старом муле с брюхом, похожим на бочку. — За ними! — приказал я Генри с его подчиненными. — Не дайте им уйти! — И тут же развернулся, заорал другим: — Второй и Третий эскадроны: оружейная комната! С ходу берем дом!