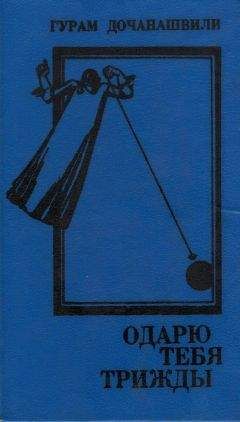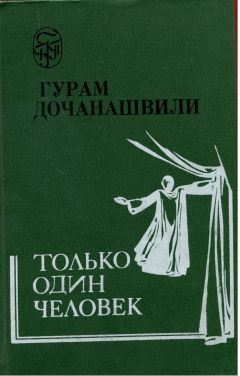Возликовав от нахлынувшей многоцветной радости, наш визирь припал к стопам верховного жреца и прижался устами к его колену, а тот продолжал, возложив ему на голову и вторую руку:
— И более того, сынок Уваншпта, знай, что та самая женщина, Майятити, послана тебе мною.
Но о конце Уваншпта — несколько позже...
5
Вот о таких-то вещах, рассказанных Петеися Третьим, размышлял Вано, и, что самое главное, все это с благоволения нынешней, сегодняшней Майи. Но иной раз Майя куда-то на несколько дней пропадала, и Вано, ощутив себя совершенно беспомощным, без толку слонялся туда-сюда у главного места их свиданий — возле маленького стола в своей небольшой каморке; и хотя он, в общем-то, отдаленно представлял себе, что ему следует переложить на этот столь странный, столь пугающий чистый лист бумаги, однако всё становилось каким-то неясным, смутным, когда он зажимал между трех своих главных пальцев ручку кизилового цвета; но он все-таки писал и писал какие-то слова, и хотя нет на этом свете ни одного плохого, непригодного слова, ибо даже так называемые «плохие» слова иной раз, на своем месте, тоже оказываются очень хороши, но как только Вано оставался без Майи, им овладевал какой-то злой гений неподходящих слов, так что он, изводясь от своего бессилия, с мозгами и сердцем, словно терзаемыми клещами, даже испытывал стыд перед оскорбленной им бумагой. И как же ему бывало тяжело... Вано бы предпочел взламывать скалу тяжелой киркой, или улечься голой спиной на колючки ежа, или — как наихудший выход — поддавшись отчаянию после долгих дней бесплодных усилий, биться раскаленной, помутившейся головой о стенку, но он знал, что именно здесь, вот за этим столом, он должен был собрать свою — во всех ее разновидностях — волю, которой ему так сильно недоставало во внешней жизни, и здесь же, на этой бумаге, на этой самой бумаге, десятикратно исправить все те бесчисленные глупости, которые он совершил когда-то трезвым или же совсем наоборот, ну, а помаячить-пошататься без толку разве это так уж плохо? Отнюдь. Совсем не плохо, когда задыхаешься в четырех стенах, когда не находишь себе места от сознания собственной никчемности. Но бывало порой, когда он, уже вконец обессиленный и потерявший всякую надежду, только и мечтал, по-настоящему мечтал о смерти, кто-то вдруг клал на плечо ему руку, да нет, не кто-то, какое там кто-то! Майя, то была Майя... А он замрёт, затаит дыхание и глаз не поднимет даже, но сам-то знает, что это она, гостья долгожданная... И представала она поначалу в простых и грубых одеждах, да еще в таких потрепанных и замызганных, будто ее таскали по грязи большие коты... «А ты все о Шах-Аббасе размышляешь, да, Вано?» — «Даа». — «Стало быть, плохи, Вано, твои дела?» — «Очень, очень плохи!» Тут Майя чуть призадумается и в то же время начинает водить по своему замызганному платью зажатой в другой, свободной, руке жесткой щеткой с довольно громким наименованием — «искания», а потом ненароком спросит: «Ты как думаешь, эти два отчаянных разбойника, эти душегубы — Шах-Аббас и Бебут-хан — находили в чем-нибудь отраду?» — «Ну-у, как знать...» — «А ведь они, вероятно, очень бы хотели облегчить душу...» — «Да, Майя, да!» — уже смекнув кое-что, вскакивал Вано, настолько сильно ушедший в свои мысли, что у него аж глаза перекашивало. «Так как же, значит, спросил Шах-Аббас?» — «Шах-Аббас спросил: а тяжко, оказывается, убить собственное дитя?» — «И что же ответил тот, другой?» — «Он ответил: да, мол, очень тяжко!» — «И ты не догадываешься, Вано, чем это должно было завершиться?» — «Да, Майя, догадываюсь! — чуть не воплем вырвалось у Вано. — Они должны были выплакаться!» — «Очевидно, так. А потом?» — И вдруг — о чудо! — Вано совершенно ясно представилось: на большом подносе голова одного из сыновей, и там же — два горько рыдающих в объятиях друг друга великих грешника, два обливающихся слезами разбойника. «Майя, спасибо тебе, Майя!» — сказал Вано, поглядев на нее снизу вверх, а она уже была в совсем других одеждах — в ризах той небесной девы-предтечи, той многоцветной музы. И вдруг она спросила: «Тебе, Вано, приходилось когда-нибудь в детстве туго?» «Да, еще бы, — сказал Вано, пригорюнившись. — Но было одно самое тяжелое, что меня вечно мучало.» — «Что?» — «Мать и отец были в разводе». — «Но ты ведь все-таки находил в чем-то отраду?..» — «Нет, в чем бы...» — «Припомни, подумай хорошенько, Вано».
И он вспомнил: он вспомнил благодатный старинный двор трехэтажного дома, и в нем — одинокое дерево, бук.
6«Ууф, теперь начнет полоскать мозги, — с досадой подумал Вано, завидев приближавшегося к нему материнского брата, одного из главных советников фараона — да пребудет он здрав, невредим и цветущ! — Мне как раз только до него!»
И действительно, тот остановился, да еще на самом солнцепеке. Но ему-то что, сопровождающие его рабы склонили над ним огромные опахала, а вот Уваншпта, предпочитавший, несмотря на свое положение, ходить в одиночку, без всякого сопровождения, чувствовал, что у него плавятся мозги под этим египетским солнцем.
— Если кто-нибудь что против нас замыслит, сынок Уваншпта, — так начал один из главных советников фараона, он же материнский брат, —сразу же донеси мне, а дальше мое дело.
— Хорошо-с.
— Будет губить юношей и отроков он, этот изверг. Ищи, к чему бы только придраться, и истребляй, истребляй эту нищую рвань; благо, радением нашего прославленного фараона — да пребудет он здрав, невредим и цветущ! — рабов у нас девать некуда. Всю эту голытьбу надо раздавить, попрать ногами, это от них вся смута, это они грозят нам опасностью, мой Уваншпта, а богачам-то небось бунтовать, сынок Уванпшта, не с чего.
— Конечно-с.
— Твоя сила должна заключаться в мастерском умении подбирать слова /«И этот меня тому же учит»/, а поскольку язык есть первейшее средство убеждения в общении между людьми, то и капни вовремя на того, кто тебе не по душе. Язык-то у тебя пока что на месте, вот и надо, следуя изречению мудрых, превратить его в меч.
— А как же-с, а как же-с. «Твой бы язык возглашенному священным крокодилу», — пришла в голову Уваншпта какая-то чушь: мозги у него плавились в этом пекле.
— Человек ведь не бессмертен. И не только простой человек; я вот и сам пребываю в сомнении, что тоже, возможно, безвременно опочу.
— Ах, дядя, ну как вы можете, ах!
— Не знаю, сынок, а только иногда такое лезет в голову... Да, так о чем бишь я тебе говорил; если ты от кого получаешь подарки или впредь ждешь выгоды, то такого не подводи под смерть. Доходы, братец, дело хорошее.
— Понятно-с.
— И здоровье тоже следует очень беречь. Вот не надо стоять с непокрытой головой на солнце, это вредно.
— Да-с.
— Смотри, с вдовами не связывайся, не наседай на них, благо на земле девчонок хватает.
— Да-с.
— Ведь верно, их пропасть?
— Ага.
— А для меня не присмотрел бы какую? — Это он спросил, выйдя из-под тени опахала.
— Да.
— Когда приведешь, мой хороший?!
— Как? Что? — смешался Уваншпта.
— Да нет, это я так,— поспешил сказать материнский брат и снова отступил в тень. — Иди, Уваншпта, доброго тебе пути.
— Я постараюсь.
«И вот эдакий должен быть у фараона — да пребудет он здрав, невредим и цветущ и да пошел он к такой-то матери! — вот эдакий должен быть у него одним из главных советников?!»
Весь Египет трудился, охваченный деловой суетой: землепашцы и ремесленники, рабы, визири, музыканты, воины, скульпторы, декораторы, жрецы и певцы, танцоры и пребывающий в единичном числе фараон... У всех у них было у каждого свое дело. Глубоко веря в иную жизнь, они возводили для своего фараона, при котором, — как ни прикинь, хоть зови его деспотом, хоть тираном, — пышным цветом расцветали искусства, они и возводили для него грандиозную пирамиду, ибо верили, что его ждет в грядущем не смерть, а лишь длительный сон, считая к тому же, что дома и дворцы суть только временные прибежища, тогда как пирамиды и гробницы — обитель вечная.
Уваншпта был сыном своей страны.
Это теперь для нас тот Египет — древний, а в те поры прямо на глазах Уваншпта очудотворялись глина и стекло, камень и кирпич, обсидиан, известняк, краски и драгоценные камни, металл, кожа, дерево, слоновая кость, фаянс... И все-таки более всего поражали воображение пирамиды — сооружение, про которое недаром сказано: «Все на земле боится времени, но само время боится пирамид».
Уваншпта возводил для фараона величественнейшую, исполинскую, дотоле не виданную пирамиду. С огромными, горделиво вытесанными каменными монолитами единоборствовали жалкие рабы, едва-едва продвигавшие по земле эти циклопические махины с помощью всевозможных хитроумных приспособлений; Уваншпта временами уподоблял в душе эти неподъемные глыбы своему тайному делу, а измочаленных в своем упорстве рабов — словам; рекой лился пот, вовсю палило египетское солнце... Уваншпта с исполненным восторга лицом взирал на высокие-превысокие, угрюмо-величественные пирамиды, и сердце его распирало от гордости; и все-таки — тут уж ничего не попишешь — он всему предпочитал Слово. Повернувшись спиной к пирамиде, он уставлялся взглядом на изобильный, безмерно милостивый в своих щедротах мутный Нил, напоенный где-то дождем, и с трепетом обращался к благостному божеству Хапи: