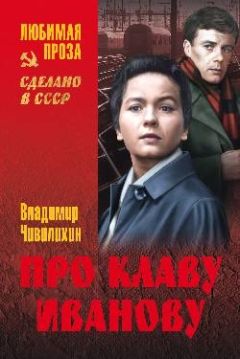- Спицу, скобу! - потребовал я, и Нина Сергеевна метнулась от стола.
Догадается или нет захватить дрель? Догадалась. Сейчас проведу ему спицу сквозь пятку, а остальное доделает Нина Сергеевна с практикантом. Ощущая в груди тяжелый, шершавый кирпич, я взял в руки молоток.
- Держите!.. А вы, больной, не очень-то пугайтесь...
Двумя ударами я прошел надкостницу, наставил дрель и мельком взглянул на больного. Он со страхом и любопытством наблюдал за каждым моим движением. Ему странно, конечно, видеть, как я забиваю в пятку эту длинную штуковину, провожу ее насквозь. Он, чудак, не знает, что другого способа подвесить груз нет, пластырное натяжение тут бесполезно...
Через десяток минут все было закончено. Напоследок я нашел в себе силы спросить:
- Как самочувствие нашего больного?
- Никак, - поморщился он. - Скоро конец?
- Все, - сказал я и отошел в угол мыть руки. Его увезли, а сестра Ириспе проводила меня в мою пристройку и открыла оба окна. Я попросил, чтоб она поставила мне под ключицы горчичники, и тут же забылся, не успев почувствовать облегчения. Смутно слышал, как дождь осыпается на мой запущенный огород и струя воды, падая из желоба, плещет в луже, неясно думал о том, что вертолеты засели теперь на озере и пилотам несдобровать...
Сестра Ириспе дежурит возле меня, появляется в комнате без стука, но я ее жестоко прогоняю. Она понимает, что мне ничею не хочется, однако все равно приносит еду. И Нина Сергеевна была уже два раза. Прибежала ночью, через полчаса после операции. Возбужденная, с деловым и энергичным видом взялась мерять давление. Сказала, что прежде всего надо мне снять боли. Когда-нибудь получится из нее врач.
- Хорошо бы сейчас закись азота, Нина Сергевна, - очнулся я. - Но вы же знаете наши возможности...
- Морфий? - спросила она. - С чем-нибудь расширяющим сосуды сердца...
- Вы теперь тут главный медик...
На рассвете Нина Сергеевна снова пришла. Она, должно быть, совсем не спала. Я чувствую, как она чересчур осторожно прикладывает стетоскоп к моей коже. От ее пальцев пахнет дрянным табаком, а в глазах усталость и робость. Неужели она все же окончательно собралась в отъезд и боится мне об этом объявить? Или, может быть, по-молодости, по-глупости думает, что я ее перестал уважать после того случая? Весной, плача и неподдельно страдая, она обратилась ко мне с обыкновенной женской бедой, как обращаются многие поселковые представительницы слабого пола. Я помог ей. Это был мой долг и ее личное дело, а она, видно, до сих пор не преодолела неловкости, никак не может увидеть во мне просто врача. Или это все мои стариковские домыслы, и она расстроена совсем другим?
- Милая Нина Сергевна! - сказал я. - Вы не сможете еще раз измерить мне давление?
Она обрадовалась, быстро вернулась из больницы с тонометром и закатала мне рукав.
- Как наш больной?
- Хорошо, Савва Викентьевич, очень хорошо! - заторопилась она. Иногда кричит, зовет меня, просит уменьшить груз.
- Уменьшаете?
- Он очень славный,-виновато сказала она.-"Посплю,- говорит, немного, а потом снова тяните, сколько вам надо". Спал крепко... Славный парень.
- Настоящий мужчина, - возразил я.
- Да? - рассеянно произнесла она. - Он долго у нас пролежит?
- Самое малое - до зимы. Функциональный метод лечения переломов очень длительный... А что же вы не сказали, есть у меня перепады давления или нет? Говорите честно.
- Вам нужен покой, Савва Викентьевич.
- Хорошо, больше не будем мерять, Нина Сергевна... Она ушла, а я, чтобы не думать о перепадах давления, о том, что дела мои очень даже неважные, начал мечтать о том, как бы хорошо было съездить до зимы в Томск, может быть, в последний свой отпуск. Там никого уж близких не осталось, но мне доставляет неизъяснимое блаженство бродить по деревянным тротуарам моего детства. Наш домишко на окраине города все еще стоит, хотя совсем врос в землю и к нему подступают новые кварталы. Я подолгу стою подле, смотрю на его замшелую крышу, на окна в косых наличниках, вспоминаю мать-великомученицу и могильный запах герани, который почему-то преследует меня всю жизнь, как только вспомню о детстве.
И еще тянет меня в Томск одна моя давняя страсть. Сейчас это стали называть ужасным чужеземным словечком "хобби". Мое увлечение необычно, но, должно быть, не столь бесполезно, как многие современные так называемые "хобби", часто совсем не отличимые от мелочного собирательства или полубуржуазного накопительства.
Так вот, меня хлебом не корми, только дай хотя бы раз в году порыться в архивах, в старых книгах и картах. Началось с того, что в юности я решил узнать все о декабристе Завалишине, моем дальнем предке. Это по отцу я Пиоттух, а мать была Завалишиной.
Удивительный мир подчас открывается в старых бумагах! Помню, я обливался слезами, впервые читая записки княгини Волконской. Да что там я? Есть воспоминания сына Волконской о том, как он с рукописного оригинала переводил эту поразительную исповедь Некрасову, а великий русский поэт не раз вскакивал со словами: "Довольно, не могу!", сжимал голову руками и плакал, как ребенок. А я удивляюсь, почему ни одного из наших великих художников не захватил такой, например, сюжет: Мария Волконская встречается со своим мужем в камере читинской тюрьмы и целует его кандалы. У нее об этом рассказано эпически просто, а что же надо художнику,. чтоб загореться? Я иногда, как в явях, вижу эту картину, достойную кисти Сурикова или Репина. И хотя главным в ней выступает благородное мужицкое лицо князя Сергея, это суровое и серьезное полотно видится названным так, как Некрасов назвал свою поэму, - "Княгиня Волконская". В картине могла быть выражена великая глубинная правда о русском человеке, а поколения наших молодых людей вздыхают над сентиментальной и лживой "Княжной Таракановой"...
Однажды от досады и ревности я решил узнать все об этой пресловутой княжне. Разыскал исследование Н. И. Мельникова (А. Печорского) "Княжна Тараканова и принцесса Владимирская", сделанное с таким же блеском и научной тщательностью, с какими Стефан Цвейг написал свою монографию о Марии Стюарт. Правда, в отличие от Мельникова, который доказывает, что Августа - дочь Елизаветы и Разумовского, умершая в 1810 году под именем монахини Досифеи в Ивановском монастыре, и таинственная авантюристка Алина, схваченная в 1775 Алексеем Орловым в Ливорно под именем принцессы Елизаветы, есть разные лица, я пришел к выводу, что под всеми этими именами прожило бурную жизнь одно и то же лицо. Об этой взбалмошной внучке Петра Великого есть свидетельства В. Н. Панина и С. С. Уварова в "Чтениях императорского московского общества истории и древностей", статьи Лонгпнова в "Русском вестнике" за 1859 год и в "Русском архиве" за 1865 год, есть воспоминания Манштейна, кое-что
можно установить по "Словарю достопамятных людей" Бантыш-Каменского, по "Исследованию о монахине Досифее" А. А. Мартынова, по статье Самгина из "Современной летописи" и другим источникам. Конечно, все это к картине Флавицкого не имеет никакого отношения, но я тут просто увлекся.
А картина обманывает хотя бы потому, что во время большого петербургского наводнения 1776 года женщины, вошедшей в историю под именем княжны Таракановой, в Петропавловской крепости уже не было. Кроме того, как могла беременная дама после длительного пребывания в грязной подвальной камере страшного каземата сохранить свое прекрасное бальное одеяние? Не понимаю, зачем надо было художнику подслащивать...
- Знаете, - Нина Сергеевна принесла какую-то новость.- Знаете, наш больной несколько странный.
- А в чем дело? - Я был недоволен, что мне спутали мысли.
- Понимаете, Савва Викентьевич, одежду его мы выкинули, она была ужасна...
- Так.
- А там у него осталась какая-то палочка.
- Что за палочка?
- Не говорит. Морщится и требует эту палочку. Какой-то странный каприз!
- Надо найти.
- Но...
- Найдите, Нина Сергевна, - попросил я. - Может, это и не каприз?
За разговором она незаметно разматывала трубку аппарата Рива-Роччи, и я понял, что дела у нее особого нет ко мне, просто хочет еще раз проверить кровяное давление. Хитрить со мной? Ладно, пусть меряет, а я вернусь к тому, что меня занимало до ее прихода...
...О своем увлечении, об успешных и безуспешных поисках больших и малых исторических истин я могу говорить и думать бесконечно. Коллеги знают мою слабость и относятся к ней именно как к слабости, лишь сотрудники библиотеки Томского университета да архивисты считают, что я занимаюсь серьезным делом. И меня влечет не только старина. Скапливаются интересные материалы о знаменитом в Сибири партизанском полководце Мамонтове. В Томске я разыскал следы революционной деятельности богоподобного юноши Сергея Кострикова, который позднее стал Кировым. В Анжеро-Судженске дожил свою долгую, многотрудную жизнь книголюб и просветитель Андрей Деренков, вблизи которого Максим Горький прошел когда-то казанский курс своих "университетов". В Анжерке рассказывают, что сравнительно недавно, уже глубоким стариком, Деренков поехал в Москву с двумя тюками - в них были редкие книги, письма Горького, Скитальца, Куприна, Шаляпина, но груз пропал в Новосибирске. Старик вернулся домой и через несколько дней умер. А на станции Тайга работал в начале века Г. М. Кржижановский, и на вокзале этой же станции осенью 1937 года умер от разрыва сердца большой и сложный русский поэт Николай Клюев. Его чемодан с рукописями бесследно исчез, и пока никто на свете не знает, что написал Клюев в последние годы своей путаной и таинственной жизни. А замечательный русский писатель Вячеслав Шишков проектировал и строил наш Чуйский тракт. И я собираю эти свидетельства и документы - может, кому-нибудь это все сгодится?