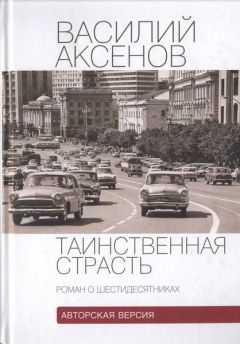— Как я рад вас видеть, дорогой Валентин Петрович, в такой великолепной форме!
Полуобнял за плечи Тушинского и Эра.
— А вот и наши лауреаты! Да-да, не удивляйтесь: все уже утверждено. Поздравляю от всей души!
Ваксону просто подал руку и быстро ее вынул.
— Прошу вас, садитесь, товарищи.
Все уселись в кресла вокруг низкого столика с экземплярами периодической печати. Беседа началась. Говорил Катаев, вслед за ним Тушинский. Журнал «Юность» за восемнадцать лет своего существования сумел подняться до трехмиллионного тиража. При всем хорошем, что он дал, он все-таки стал слишком массовым; уповает на стереотипы. Между тем интеллектуальная часть нашей молодежи жаждет увидеть новый печатный орган писателей, осуществляющий новаторский эксперимент. В отсутствие такового они идут наобум то в одну редакцию, то в другую, получают от ворот поворот и, что греха таить, нередко скатываются в самиздат. Вот почему мы обращаемся в Центральный комитет с предложением открыть параллельно с «Юностью» новый журнал, предположим, под названием «Трап», что символизирует подъем на новую высоту. Эксперимент должен быть в наших руках.
Все сказанное было изложено на трех листах машинописи. Ваксон вынул эти три листа из своей папки и передал их члену Политбюро. Принимая эти три листа, Диомидов внимательно посмотрел на передающего. Что-то знает обо мне, подумал передающий. Позднее он убедился, что был прав. Диомидов быстро прочел машинопись отложил ее в сторону.
— Сердечно благодарю вас, товарищи, за вашу инициативу. Я передам документ в Секретариат и расскажу товарищам по Политбюро о нашей дружеской беседе. Я абсолютно согласен с вашей точкой зрения и почти уверен, что инициатива будет поддержана. Думаем, что мы можем уже поздравить друг друга. Журналу — быть!
Он встал и пожал руки писателям в следующей очередности: Катаеву (с чувством), Тушинскому (доверительно), Эру (как партиец партийцу), Ваксону (любезно).
Окрыленные, как стая осенних гусей, писатели покинули кабинет и замешкались в приемной. Произошло неожиданное: Тушинский рванул обратно к могущественному товарищу.
— Петр Нилыч, можно у вас украсть еще три минуты? Буквально три! — повернулся к братьям-писателям: — Валентин Петрович, Роб, Вакс, подождите меня пять минут! Буквально пять! — и прикрыл за собой дверь.
Оставшаяся троица уселась на диване в приемной. Ждали не три минуты и не пять, а все пятнадцать. Точнее, семнадцать с половиной. По прошествии этого времени Ян выскочил из кабинета, сияющий и четырежды окрыленный: «Лечу! Лечу!» Оказалось, что Диомидов дал ему «добро» на поездку в Америку.
Четверо вышли из здания ЦК и медленно пошли вниз по Театральному проезду в сторону отеля «Метрополь», стильный пожилой джентльмен и трое сорокалетних парней с некоторыми следами излишеств на чуть-чуть припухлых лицах. Решено было зайти в «Метрополь» и выпить шампанского в честь нового журнала. В главном зале с его колоссальным арнувошным потолком было полутемно и пусто. Обслуживание еще не производилось, однако Ян Тушинский был тут же узнан и для почтенной компании был прислан разбитной официант Сергей-Сельдерей. Ян распоряжался. Тащи «Новосветского», у нас праздник! Какой праздник? Двойной, вернее, тройной, а может быть, и четверной! Обедать не будем. Тащи горячих калачей и икры, икры, икры; пусть будет черная, черт с ней! Вот так получился стильный «завтрак с шампанским» — восторг большими глотками, хруст на зубах и в руках, умащиванье свежайшей зернистой. Значит, все получится, все сложится, как задумано, значит, взлетим по «Трапу» на шканцы и с «Трапа» взорлим уже над самими собой!
Катаев прищурился на Тушинского: «А вы мне напоминаете, Янк, меня самого в Двадцатые годы. Олеша мне однажды сказал: «А вас, Старик Собакин, я вижу, все уже здесь знают». Вот так же я тогда в этом зале распоряжался, как вы сейчас».
Подняли тост за «Трап». А может быть, старики, назовем журнал «Вверх по трапу», в том смысле, что не вниз, не в сортир, а на капитанский мостик?! Что за экзальтация такая дурацкая, думал каждый, кроме Тушинского. Экзальтация шла от него. Возможно, в тот день он казался себе чародеем социализма. Вот нет ни хрена вокруг, одно убожество, а хлопнешь в ладоши, и сразу все появляется — головокружительное, ублажающее, хрустящее! Вот хлопнешь еще раз, и в глубине «мирискусничества» появляется ведомая расторопным Сергеем-Сельдереем дева-мечта, томная, слегка презрительная, «бессонницей томима, усталая от грима».
После того как Ян куда-то отчалил с Человековой, великолепная компания рассыпалась. За Катаевым приехала его машина. Ваксон и Эр вышли на волю и пошли к метро. Присели в сквере возле Большого театра. Ну, что ты думаешь? Не знаю, может быть, что-то получится. Трудно поверить, что о н и, т е, дадут нам журнал; так высказался Ваксон. А я боюсь, что Янки своей экзальтированностью все развалит; так предположил Эр. Я вот сегодня смотрел на него и думал: какой странный, хлопотливый такой, суетливый восторг вокруг собственно персоны он демонстрирует. Они оба тут стали хохотать и долго не могли успокоиться: смешинка в рот попала.
Примерно через месяц после «исторического дня» все метропольские восторги разошлись по воде, как будто кто-то пёрнул в лужу. Катаеву позвонил помощник Диомидова и грустным полуинтеллигентным голосом сообщил невеселую весть: товарищи в Политбюро сочли ваше предложение, дорогой Валентин Петрович, не-це-ле-соо-браз-ным. То есть небезарбузным, нецельнокрамбабасным, несоораспрекрустным.
Еще через полмесяца Старик Собакин вдребезги разругался с вернувшимся из Америки Яном Тушинским. Оказалось, что тот, не ставя никого из соучастников в известность, пишет какие-то письма в инстанции, в которых сообщает оным инстанциям, каким журнал «Трап» будет замечательным распространителем ленинских идей о литературе.
В общем, с партией, ребята, лучше не связываться, ибо благими намерениями вымощена дорога в ЦК КПСС; так сказал своим новым молодым друзьям тертый калач Ваксон в 1978-м. Если уж создавать акцию неподцензурности, нужно все делать своими руками в контексте скромности средств. Нужно сделать двенадцать экземпляров альманаха, но не больше. Почему? Потому что если больше чем двенадцать, то нам могут вменить нелегальное распространение нежелательных, то есть нецензурированных текстов. К копировальным машинам нам не подобраться, потому что в СССР они все под замком и под охраной бронированных подразделений дивизии имени Дзержинского. Значит, надо просто-напросто сделать три закладки по четыре копии на обыкновенной пишмашинке.
Олеха и Венечка сообщили, что клич об альманахе уже вброшен в литературные массы. Отклики приходят ежедневно. Желающих сомкнуться больше, чем сторонников невмешательства. Давайте сначала определим редколлегию. В нее войдут два наших молодых героя, Охотников и Проббер. Их будут поддерживать испытанные борцы, члены Союза писателей с известными именами — Ваксон, Битофт и Расул Режистан. Все дают рассказы, мощную прозу из «ящиков стола». Кто у нас дальше в списках? Олеха, называй примкнувших. Гони их гуртом. Итак: Миша Кричевский — проза, Шуз Жеребятников — лагерный псевдофольклор, Мастер Цукер с пухленьким пирогом очередной непечатной выпечки, поэтесса Линда Залесская, чьи стихи разрозненными стайками порхали по самиздату, ее муж старикан Чавчавадзе Жорж, известнейший и увенчанный переводчик поэтов Кавказа и в то же время ярчайший непечатный поэт, а вот и самый молодой, «красивый двадцатидвухлетний» автор повести о питерских юнцах Васюша Штурмин, еще один Вася, философ русского авангарда Рябинкин, псевдодетские поэты, а ни самом деле неообэриуты Юра Тапир и Женька Брейп, бывший юморист, а ныне кафкианец Грэг Аркадьев, сторож—дворник Донского монастыря, христианский мыслитель Вадим Камышатников с его «Предрассветными этюдами», неприкаянный театральный человек Юлий Невзорозов с его «Четырьмя темпераментами», Боря Бахтин, племянник М. М. Бахтина и автор блестящей «Дубленки», что в самиздате объявляли как парафраз «Шинели», из которой, как известно, мы все вышли, ну и Левка Кржижановский, поэт, полуподполыцик и ультрадиссидент, прославившийся связями с Британским посольством, куда он обычно заезжал в багажнике дипмашины… пока все.
Подумав, члены редколлегии пришли к выводу, что эту ораву непризнанных и оскорбленных надо еще укрепить несколькими именами авторов, «работающих на грани лояльности», то есть официальной фрондой. Отловили Антошу Андреотиса; дашь стихи для дерзновенного альманаха? Конечно дам, тут же ответил тот и немедленно представил подборку, сквозь метафизику которой высветилась жутковатая станца:
Над темной молчаливою державой
Какое одиночество парить!
Завидую тебе, орел двуглавый,
Ты можешь сам с собой поговорить.
Потом отправились к Нэлке Аххо. Красавица наша к тому времени прошла через грандиозный любовный тайфун, который завершился браком с художником Гришей Мессерсмитом. Теперь она жила с ним в огромной чердачной студии, уставленной копировальными станками и коллекцией старинных граммофонов. Нэлка, красавица, впустишь народ? Входите, мальчики, входите всей толпой! Гришка, которого в Москве величали «королем богемы», уже раскидывал по средневековому столу небьющиеся тарелки. Ему помогал Скворцов, бывший милиционер, а ныне ассистент. Давайте первый тост за Нэлку и Гришку! Давайте второй тост за ваш чердак! Давайте третий тост за отмену цензуры! И наконец — четвертый тост за альманах «МетрОполь»! (Теперь, надеемся, читатель понял, откуда взялось это гордое имя.) И Аххо тут же сообщает, что ее вкладом будет эпическая поэма «Много собак и Собака». Там действие происходит на Диоскурийском побережье, а действует там слабоумный и немой Шелапутов. И тут же заюлила, затявкала Ингурка. Там же под открытым прикрытием Пруста проживала и хозяйка, мадам Одетта. Была ли у Шелапутова какая-нибудь родина, роднее речи, ранящей рот? Ну и так далее: отставник Пыркин, девочка Кетеван, некий Гиго, втуне едящий хлеб и пьющий вино, и наконец — большой старый пес цвета львов и пустынь, с обрубленными ушами и хвостом, с обрывком цепи на сильной шее, Собака! (Забегая вперед, мы скажем, что поэма сия оказалась чистейшим перлом этого альманаха.)