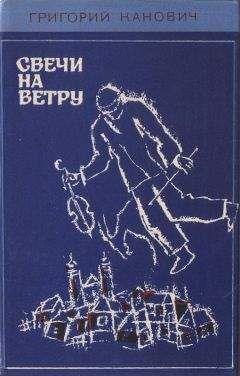— Я не подслушиваю, господин учитель, — отозвался его любимчик. — Я как раз вместе с Юдифь пролез в шатер Олоферна. Сейчас мы его будем убивать.
С Юдифь?
Абель Авербух отвел меня в угол и сказал:
— Я согласен. В гетто они все равно погибнут. Если не в облаве, то от голода. Я могу научить их письму и счету. Могу объяснить строение Вселенной. Но я бессилен их защитить и обеспечить им место под солнцем. Не стоит себя обманывать… И их не стоит… Прав мудрец: «Настанет день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно». Каждый день я встаю с одной единственной мыслью… каждое утро говорю себе: «Хватит, Абель, руки вверх!» И начинаю все сначала… Что я без них?.. Старый больной чурбан… Сорок лет жизни отдано им без остатка… Нет, я ни о чем не жалею… ни о чем… Я и письмо порвал потому, что не выношу жалости и высокопарной интеллигентской дребедени… Мы с Златой никогда не умели жить для себя… Но разве мы одни такие на свете? Для кого растет лес? Для кого течет река? Для кого светят звезды? Чем ты крупней, тем щедрее отдача. Только вошь живет для себя, только паук, хотя и он нет-нет да совершит благодеяние — поймает в свою сеть заразную мошку… Вы уж извините меня за мой монолог, но я давно ни с кем не разговаривал… просил, вымаливал… ругался… А душа… душа, любезный Даниил, как паводок: ей хочется излиться.
Абель Авербух замолк, окинул взглядом погреб, прислушался к негромкому рассказу сестры и добавил:
— Итак, чем я могу быть полезен?
— Вы… вы должны их подготовить… убедить…
— В чем убедить?
— Видите ли, господин учитель… Дело тут не простое… А вдруг они откажутся лезть…
— Куда?
У меня пересохло во рту. В него словно напихали наждачной бумаги.
— Куда? — повторил директор приюта, и хрусталики его пенсне прожгли меня, засмолив ребра.
— Бочка золотаря не шатер Олоферна, — решился я.
— Что?
— Я говорю: бочка золотаря не шатер Олоферна.
— Так вы их, стало быть, в бочках… как дерьмо?
— Другого выхода, к сожалению, нет, — сказал я.
— Это невозможно.
— Почему?
— Вы еще спрашиваете?.. Это же варварство! Это же надругательство над личностью!..
— Господин учитель! От дерьма личность еще отмоется, а вот от смерти — никогда.
Я стал горячо и сбивчиво расписывать ему преимущества нашей затеи. Все продумано до мельчайших деталей, все надежно, риск, конечно, имеется, но провала… провала не будет… Особенно я напирал на баню, на силу воды и мыла. Когда же вода и мыло не помогли, я ни с того ни с сего перекинулся на сравнения, уподобил бочку пеленкам: там, мол, тоже приходится по-всякому, однако же всю жизнь ими не разит.
Абель Авербух ни разу меня не перебил и по тому, как он слушал, я понял: дело табак.
Тем не менее я как заведенный гнул свое. Я ссылался на его слова о милосердии, доказывал, льстил, умолял. Что поделаешь, если только таким способом можно обеспечить место под солнцем невежде Соркину, любимчику Мильштейну и тем, кого я не знаю по имени и кому он без остатка отдал столько долгих лет?
— Я отвечаю за них перед богом, — сказал Абель Авербух и осекся. — Что ж вы молчите?
— А что тут говорить?
— Я думал, вы скажете: «Бога нет».
— Раз вы перед ним отвечаете, значит, он есть, — не стал я его злить.
— Есть, любезный Даниил. Но он сейчас в отпуске.
— Бог в отпуске?
— Да. И замещает его дьявол.
На другой половине погреба прикончили Олоферна, отрубили ему голову и повесили — для всеобщего обозрения — на зубчатую стену. Радостно звучали тимпаны, восторженно пели кимвалы.
Голос Златы дрожал:
— И сказала Юдифь: горе тем, кто восстает на род мой, господь отомстит им в день суда, пошлет огонь и червей на их тела, и они будут чувствовать боль и плакать вечно.
— Значит, вы отказываетесь, господин Авербух? — спросил я, пока господь посылал свой огонь и своих червей. — Я вас правильно понял?
— Я не отказываюсь, — процедил директор приюта. — Я должен посоветоваться… С сестрой и с ними. Пусть решают сами… Подождите минутку.
К великому моему удивлению, совет длился недолго.
— Десять — за, один — против, — объявил вернувшийся Абель Авербух. — Так и передайте доктору Бубнялису. Пусть присылает своих золотарей.
— Может, вы уговорите и того, кто против.
— Вряд ли… Мильштейн решил остаться с нами.
— Но…
— Он для бочки слишком велик. Вымахал почти до потолка. Когда же вы, любезный Даниил, приедете со своими варварами?
— Скоро.
— Я хотел бы сопровождать их… Я хотел бы поговорить с доктором Бубнялисом… дать ему некоторые наставления… Все-таки я проработал со своими ребятишками семь лет… Знаю каждого, как облупленного… Соркин, например, сластена… Цейтлин — фантазер. Крут — врунишка… Как вы считаете, я смогу сойти за гавновоза?
— Абель! — возмутилась Злата. — Что с тобой?
— Могу? — набычился директор приюта.
— Вполне, — ответил я. — Только пенсне.
— Пенсне я ликвидирую. А нос?
— Что нос?
— Нос подходящий?
— Нормальный.
— А глаза? А уши? А задница? — распалился Абель Авербух. — Господи боже мой! Что за мир? Что за время, если ворота свободы распахиваются не перед любовью, не перед мудростью, а перед дерьмом?
Абель Авербух еще больше ссутулился, как будто подставил плечи в ожидании ноши, и вот впервые за шестьдесят лет ее взвалили — одну бочку, вторую… Сколько?
— Не поверите, любезный Даниил, но иногда чертовски хочется взять в руки что-то огнестрельное и пару раз пальнуть по Вселенной!..
Он поднялся со мной по лестнице, откинул люк, выпустил меня, и седая его голова еще долго торчала среди руин, как затерявшееся в звездной пыли светило.
С тяжелым сердцем возвращался я из подземного приюта. Несмотря на уговор, меня одолевали сомнения. Что, если Абель Авербух в последний момент передумает, откажется от своего слова и никого не отдаст? Уж очень они странные оба: и он, и его сестрица Злата. Путешествуют под землей к морю, пишут без карандаша и мела, рассуждают о Вселенной, восторгаются подвигами бесстрашной вдовы Юдифь, сражаются с Навуходоносором.
Пригонишь телегу на развалины винной лавки, а тебе вдруг скажут:
— Поворачивай оглобли! Никакого Бубнялиса мы знать не хотим. Разве ты не видишь: мы сейчас веселимся пред святилищем в Иерусалиме. Олоферн убит! Навуходоносор повержен.
И не смей перечить, не убеждай, что их главный враг живет не в великом городе Ниневии, а тут, в десяти шагах от винной лавки, что рыскает он не на коне, не в золотом шлеме, а в каске, и что зовут его не Навуходоносор, а Ганс или Фридрих. Или Вильгельм.
Если Абель Авербух нарушит свое слово, все наши усилия пропадут даром. Где мы возьмем других детей? Кто их нам даст?..
Нет, успокаивал я себя, нет, все будет в порядке. Абель Авербух понимает, какая угроза нависла над его сиротами. Абель Авербух пока еще в здравом уме, хотя в погребе легко свихнуться.
Я, конечно, соврал, когда сказал, что он может вполне сойти за золотаря, он даже на водовоза не похож, вожжи ему в руки не сунешь, на передок не усадишь… И дело тут не в пенсне. Абеля Авербуха подведет осанка. С такой осанкой далеко не уедешь: либо лошадь встанет на дыбы и сбросит тебя, либо часовой, заподозрив неладное, остановит.
Придется им попрощаться внизу, в погребе. Или у телеги, пока дети не заберутся в бочку. Ну, а встречу с доктором Бубнялисом можно устроить попозже, если Абелю Авербуху позарез нужно дать ему кое-какие наставления. Впрочем, так ли уж важно доктору Бубнялису знать, что Соркин не только невежда, но и сластена, а Крут — врунишка.
Я шел и думал о том, что станет с Абелем Авербухом, когда он останется один с Златой и умницей Мильштейном. Подыщет себе другое жилье? Наконец-то выберется на свет божий из подземелья? А может… Может, наберет десять новых сирот и уведет под землю. Сиротами гетто никогда не оскудеет.
Как и вдовами.
Как и вдовцами.
Уведет, и опять Злата начнет рассказывать небылицы про великий город Ниневию, про его грозного царя Навуходоносора, и опять Абель будет разучивать с ними азбуку:
— Алеф!
— Бейс!
— Гимл!
— Далед!
Я и сам не заметил, как заговорил вслух, осыпая прохожих буквами, как в веселый праздник симхес-тойрес леденцами.
Прохожие оборачивались и пожимали плечами.
Разве им объяснишь, что я не сумасшедший?
Можно, конечно, предложить Абелю Авербуху поступить в хедер к Юдлу-Юргису и сделаться за короткий срок трубочистом. Но он только поднимет меня на смех. Сорок долгих лет чистил мозги и души. И вдруг — дымоход!..
Чем больше я думал об Абеле Авербухе, тем сильней угнетало меня сознание бессмысленности и тщеты нашей затеи. Допустим, все пойдет, как по маслу, допустим, он не передумает, отдаст всех детей — даже Мильштейна — ну и что?