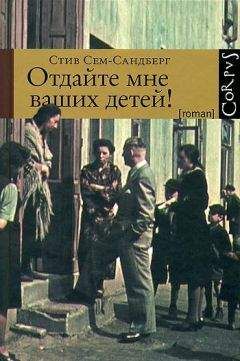KINDERHOSPITAL DES ÄLTESTEN DER JUDEN
Все еще видны следы большой Промышленной выставки Центрального бюро по трудоустройству. В холле стоят витрины, среди осколков стекла и обрывков занавесок лежат сугробы плакатов, исписанных статистическими графиками и кривыми: они особенно жалки теперь, с грязными отпечатками подошв на красиво вычерченных колонках цифр.
Из дома, стоящего во дворе, простого одноэтажного строения с окнами, забитыми досками, спускаются каменные ступеньки без перил — кажется, что лестница ведет прямо под землю; за лестницей начинается узкий подвальный ход, который туннелем тянется под зданием. Роза ощущает гнилой угольный сквозняк от выложенных камнями земляных стен и инстинктивно наклоняет голову, чтобы не удариться о потолок. Но Замстаг осторожен. Одной рукой, словно Роза всего лишь небывалых размеров кукла, он снимает ее с плеча. В другой руке у Замстага длинная, с небольшой прожектор, лампа. Роза, наверное, не заметила, как он потянулся к выключателю, — внезапно стены подвала, потолок и пол рядом с ней оказываются залиты резким слепящим светом. Ведерки с краской, банки растворителя на полках; рабочие инструменты, рассортированные по форме и размеру. Посреди подвала покоятся остатки печатного пресса Пинкаса Шварца. Как они исхитрились притащить сюда это снаряжение? За прессом, на полке под низким потолком, всевозможные музыкальные инструменты: туба, тромбон и (на крючках, вделанных в полку) скрипки — на петельках из тонких рояльных нитей, надетых на скрипичные шейки.
Тут она замечает детей из Зеленого дома.
Их лица, прижатые друг к другу, как костяшки счетов, кажутся бледными, ослепленными резким светом. Сначала она видит морщинистый лоб настройщика. За ним, словно на копии снятой в Зеленом доме фотографии, — Натаниэль, Казимир, Эстера, Адам.
Все дети из списка здесь. Дебора Журавская тоже.
Роза торопливо поднимает глаза, потом, стыдясь, опускает взгляд. Она хочет что-то сказать, но слова, которые она ищет, ей не даются. Роза молча проходит между низких полок, тромбоновых спин, мимо острого края точильного станка. Последний участок ей приходится ползти на четвереньках, втянув голову в плечи; на шею сыплются с потолка песок и камешки. Но вот наконец она на месте и может развернуть носовой платок с кусочками хлеба. Она протягивает корку Деборе, сидящей с краю; потом дрожащими руками разламывает остальной хлеб, оделяет поровну всех, кто сидит в ряду — Натаниэля, Казимира, Эстеру, — и все еще не может выговорить ни слова.
За спиной у детей каменная стена, выступы которой были когда-то покрыты цементом. Однако цемент давным-давно осыпался. Да и заводские кирпичи крошатся. Очень скоро стена, под которой сидят дети, рухнет.
— Замстаг пришел, — произносит Натаниэль хриплым и царапучим, как цемент, голосом.
— Замстаг теперь работает в полиции, — вставляет Эстера, немного суетливо (как всегда): будто слово «полиция» что-то объясняет.
Но, может быть, оно и объясняет — в их глазах.
Роза вспоминает игру, в которую дети играли когда-то в Зеленом доме, — запрещенную, как ее называла Наташа. Игра заключалась в том, что дети притворялись, будто занимаются своими делами. Наташа склонялась над швейной шкатулкой, Дебора играла на фортепиано. Одного из ребят отправляли в коридор, и он должен был крикнуть: «Такой-то идет!» Если выбирали Казимира — он возвращался с криком: «Черчилль идет!» Если выбирали Адама — он выкрикивал: «Рузвельт идет!»
И все должны были спрятаться. Она помнит, как доктор Рубин однажды, рассердившись, запретил разыгрывать подобные спектакли: Казимир завернулся в коврик из комнаты Розы, и об него запнулся Замстаг, вошедший с кастрюлей на голове и кулинарной лопаткой в руке: «Председатель идет!»
И дети сидели кругом, словно горящие свечки.
Он всегда приходил в последний момент, чтобы спасти их. Закончив делить хлеб, Роза снова подняла глаза: фонарь, направляющий вниз конус света, все еще висел у двери, но за светом больше никого не было. Наверное, дети видели, как ушел Замстаг, но остались сидеть как сидели. Замстаг всегда приходит и уходит, такой уж он.
Дебора достала из-за пояса платья платок, скрутила в узкий жгут и смочила слюной; потом грубо зажала голову Розы у себя между согнутых колен и стала сильными, но сдержанными движениями вытирать кровь и грязь с ее лица. Роза сделала попытку вырваться. Нужно все рассказать. Дети не знали, как выглядит гетто за стенами их тесного подвала; не знали, что весь квартал обнесен заграждениями и что скоро явятся гестаповцы с собаками. Роза хотела рассказать обо всем этом, но при взгляде на Дебору, вытирающую ей лицо с тем же отсутствующим видом, с каким вытирают миску или кастрюлю, сдалась. Она устало, бессильно опустила голову девушке на колени и сказала:
— Я помогу тебе, Дебора. Почему ты не веришь мне?
Но Дебора молчит. И будет молчать. Она берет совок из рук госпожи Гробавской или тянется к ручке ведра, которое они несут из колодца возле Зеленого дома. Молча.
— Я верю. Ведь я уже там, наверху, — вот и весь ее ответ.
Она выставляет эти слова, как выставляют первый попавшийся предмет, чтобы спрятаться, остаться за ним. Так Дебора оставляла мешочек с расческой и зеркалом по ту сторону льняного полотнища, натянутого в окне квартиры на Бжезинской; оставляла тетрадь с нотами для музыкального представления в Зеленом доме. Так все в гетто было чьим-то, а теперь оставлено навсегда. Так Вернер Замстаг ушел и оставил после себя — что? Большую слепящую лампу, которая горела над спрятавшей их дверью подвала.
И Роза Смоленская еще была; Дебора склонилась над ней и стирала кровь и боль с ее лица.
И Роза закрыла уставшие от боли глаза.
И лицо Розы Смоленской тоже было забыто.
Власти обещали прислать автомобиль, чтобы отвезти их на станцию, но машины все нет. Обитатели дома на улице Мярки, включая госпожу Фукс и ее брата, сидят на вынесенных стульях, а Сташек тем временем залез на вишню, в могучей кроне которой господин Таузендгельд незадолго до падения дворца спрятал деньги принцессы Елены. Теперь Елена требует снять деньги с дерева. Дядя Юзеф приставил к стволу лестницу, но даже с ее верхней перекладины не может дотянуться до кроны. Так далеко доставал один только господин Таузендгельд своей приснопамятной правой рукой; и, выруганный за свою никчемность, Юзеф Румковский отправился добывать шест, сачок или еще что-нибудь длинное, чтобы собрать деньги до того, как семейство покинет гетто. Но пока они ждут дядю Юзефа, неужто на вишню не вскарабкается ее, принцессы Елены, libling, ее Сташек, ее Сташулек? Он взбирается, как положено мальчишке, раздвинув ободранные коленки и ляжками прижимаясь к стволу дерева, и только чувствует восхитительное потягивание, когда пахом трется о шероховатую кору.
Высоко в кроне вишни, под зубчатыми листьями, господин Таузендгельд повесил мешочки с рейхсмарками. Мешочки выглядят как когда-то его лицо: словно их сшили одновременно в длину и поперек. Сжав один мешочек, Сташек чувствует: внутри что-то шевелится, будто жующие челюсти. Далеко внизу, под резными листьями, под сладкими ягодами в ожидании транспорта стоит все, что они собрались увезти с собой из домов на улицах Мярки и Окоповой. Кровати и обеденные столы, кушетки и бюро; «личный» секретер председателя, kredens принцессы Елены (но без бокалов и сервизов — господину Юзефу пришлось их упаковать); ее птичьи клетки (те, что остались), полные щебечущих крылатых созданий, которые гомонят в них, цепляясь за боковые и верхние прутья.
По другую сторону крыши из листьев раскинулось гетто. Море низеньких домиков и деревянных сараев, из которого торчат несколько более высоких зданий — словно кривые, неправильно выросшие зубы. Если протянуть руку, можно одним движением схватить и перевернуть целое гетто. Сташек растопыривает пальцы. Посреди гетто, посреди Сташековой ладони, стоит его отец.
Отец тоже ждет обещанного транспорта.
Транспорт обещали прислать на площадь Балут в три часа, а сейчас три, и даже больше; Румковский давным-давно потерял терпение и вышел на площадь дожидаться автомобиля. Как и на улице Мярки, из конторы вынесли мебель и архивные шкафы — председатель объяснил, что их совершенно необходимо взять с собой. Это последний транспорт. Председатель один в конторских бараках. Не осталось даже немцев из администрации гетто.
Председатель один, и небо над ним такое широкое и пустынное, что кажется — в него можно упасть как в колодец.
В последние ночи ему несколько раз снилось, что он упал вот так в небо, и каждый раз оказывался на открытом месте вроде этого. Было темно; вокруг лежали останки изрубленных людей. Черные птицы прилетали из темноты и садились на трупы. Иногда птицы подлетали так близко, что он ощущал, как их мягкие крылья с шорохом касаются саднящих швов на лице. Он лежит связанный на земле священного места, а они прилетают, чтобы расклевать, разъять его тело. В этот миг он понимает: он пленен не потому, что его заперли — человек по природе своей заперт, отрезан от всех; и не потому, что вокруг темно — вокруг нас всегда темно; но потому, что так он навеки отделен от того, что принадлежит ему по праву.