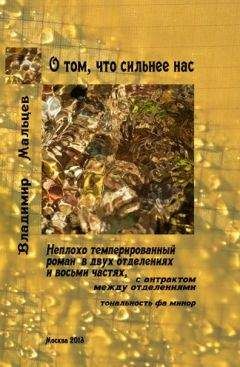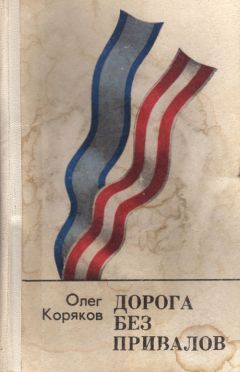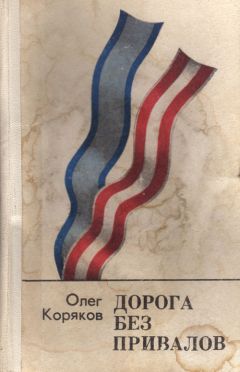Наконец, позвонила. Толковали, наверное, часа полтора. На первый взгляд ничего странного не обнаружилось, хотя печального и грустного — много. Во-первых, зашкаливающий за все мыслимые пределы акцент на наркотики. С самого начала разговора, в котором идея встретиться была отвергнута с мотивировкой, что пока напрочь не откажусь от мысли, что всё происшедшее и происходящее хоть как-то с ними связано, — встречаться нет смысла. Дальше по разговору Ленка ещё пять или шесть раз сворачивала в эту же сторону. Вторая тема, на которую Ленка сворачивала раз за разом, — матушка. Чуть ли не десяток попыток по всем пунктам, чтобы её выгородить. По тем же пунктам, которые в письме бросались в глаза, очень чётко показывая проблемность обстановки, и при этом видно было, что идут они от души, — полное молчание. Устраиваю допрос с пристрастием — подтверждение каждый раз находится, но вытаскивать его приходится каждый раз из самой глуби. Но подтверждение — самого факта, не более. Никаких идей, никаких желаний. Да, одно не получается, другое, третье тоже, ну и что? Периодически — агрессия, но тоже подавленная. Попробовал свернуть на музыку. Как-никак единственное, чем она в письме похвасталась — это что нашла, наконец, своё призвание, теперь учит музыке детей. Да и по телефону, когда звонил в начале выставки, успела похвастаться, что теперь — музыка и только музыка, так что практически от инструмента не отходит. В общем, спросил о музыке. Ответ был неожиданным:
– Музыка? Знаешь, я на той неделе сходила в консерваторию. А потом три часа рыдала в голос. В музыке из меня тоже ничего не получилось.
Удивило не то, что она вдруг начала выгораживать своего Мишу, а удивило — как. Я уже потом понял, что разговор как бы распадался на две струи. Одну струю составляли темы подготовленные. Ленка вдруг прошлась по всем пунктам новеллы, где была приведена фактура. И везде от неё поступала не просто ложь. Поступала ложь махровая, напрочь пересыпанная противоречиями. Ленка обычно следит за логикой — а здесь логики не было. Десять взаимоисключающих утверждений подряд, каждое лживо, каждое в вопиющем противоречии с двумя соседними. А второй струёй были ответы на те мои вопросы, которых не ожидалось. В целом примерно вот так:
– Нет, Миша не лжив. И в своих резюме он всегда писал только правду: он и учился в куче мест, и работал и тут и там, и интересов у него была масса.
– Так ведь я проверил то-то и то-то…
– Знаешь, а что, человек, когда ищет работу, в своих резюме должен правду и только правду писать? Нет, конечно. Так его никто не возьмёт. Ты же видел и объявления, по которым мне работу искали, там тоже нет ни единого слова правды, всё, что там написано о моём образовании и опыте, — чистая ложь. Иначе — не было бы у меня учеников.
– И тогда, когда он спрашивал тебя по телефону, назвавшись кучей разных имён и приведя кучу версий, кто он такой, — тоже правда была?
– У него были основания…
– И то, что подл, неправда? Это не он анонимно писал те кляузы на редакторов?
– Он. Но мы их вместе писали. Я знаю, у него были основания.
– М-дя. Может быть, скажешь ещё и что не трус?
– Трус. Но ему и это простительно. У него отец был алкоголиком, причём буйным алкоголиком, он испортил Мише всю жизнь. Да, кстати, он Мише никогда и ни в чём не помогал. Это — обоснование и извинение для того, чтобы человек вырос трусом.
– Интересно получается. Мы только что прошлись по всем пунктам — и получается, что всё же лгун, трус и подлец. Так?
– Так. Ну и что? Но у него есть и достоинства.
– Какие? Стихи?
– Ну да, пишет какие-то стихи, в которых нет ни смысла, ни размера. Но графомания — не самый страшный порок.
– Фотограф, что ли, хороший?
– О фотографии он не имеет ни малейшего представления.
– Журналист хороший? В Нэйшнл Джиогрэфик постоянно публикуется?
– Да нет, журналист он плохой. Но с Нэйшнл Джиогрэфик — хочешь смейся, хочешь нет, но у нас одну статью взяли, хотя уже второй год не печатают. Я просто обалдела, как её могли взять с этими ужасными фотками. Наверное, потому, что в русской редакции одни дураки сидят, а Миша постарался, расписал совершенно обычные и рядовые находки, сделанные в той экспедиции, как сенсационные и переворачивающие весь научный мир. Да, для тех старых интервью — никто ему не помогал, он сам на них вышел.
– Начинающий журналист, сам вышедший на трёх подряд персон подобной известности, — через полгода неизбежно в звезду журналистики превращается. И где оно?
– Ну да, его все к тому поощряли, чтобы продолжал. Но ему надоело, он другим занялся.
– А когда опять начал — ему кто-то мешал?
– Нет, все помогают. Но теперь всё другое, теперь не доберёшься до них.
– И всё же о достоинствах. Хоть одно — укажи?
– Не укажу. Это — моё дело, я их вижу, я их знаю.
Экспресс-пробежка по прошлому — примерно тот же результат. Изумительная и абсолютная память на любую второстепенную деталь. Встречные вопросы с немалой долей ехидства. И тут же – полные и тотальные провалы памяти, ну, или — столь же полное и тотальное враньё по всем ключевым моментам. Вплоть до того, что, когда попробовал обратиться к паре тем того разговора, когда мы сидели счастливые перед налётом, — сказала, что не помнит вообще ничего и повторила Мишину версию, что я её опоил. Моему изумлению не было предела.
– Когда? На улице перед твоей конторой?
– Нет, дома.
– А дома ты разве до того что-то пила кроме одной крошечной рюмки настойки, которую мы не один раз пили до того?
– Нет. Этого хватило. Я была усталая, а когда я усталая, мне мало надо.
– Двадцать пять грамм тридцатиградусного?
– Ну да.
Конец разговора был наиболее примечательным.
– Кажется, разговор исчерпался? Прощаться будем?
– Наверное, так. Но скажи — ты выкарабкиваться будешь?
– Может быть. А вот скажи: если выкарабкаюсь, а потом сразу же в другое подобное дерьмо попаду — что делать будешь?
– Ничего. Сейчас есть доля моей глупости и моей вины. Там — не будет, там дело чисто твоё.
– А знаешь, я ТОЧНО знаю, что мне нужно сделать. Только не знаю, когда — через неделю, через месяц, через год? А может быть – и никогда…
– Но когда соберёшься — помощь примешь?
– Наверное, приму. Нет. Точно приму.
– Договорились.
– Володь, у меня ещё одна просьба. Ты мне больше не звони. И не пиши. Когда соберусь, я сама тебя найду.
* * *
Полгода спустя:
– Знаешь, Володь, я ведь тогда, после прочтения новеллы и твоего звонка с выставки, — чуть-чуть не сорвалась. К маме поехала. Наконец, рассказала ей почти всё. Она поняла, что наделала. Она поняла, кому она меня отдала, ей ведь всё равно было, кому, лишь бы от тебя забрать. Она сказала, что как только я соберусь, я могу возвращаться домой. И больше она ничего подобного никогда не сделает. Но я тогда подумала — и передумала, опять решила остаться.
* * *
Наверное, неделю я осмыслял этот разговор. Постепенно крепло ощущение, что лжи стало много, причём не просто много, а — колоссальное количество. Процентов девяносто от всего сказанного. Крепло и второе ощущение вот тех двух струй. По той струе, где Ленка не готовилась, — она была странноватой, но Ленкой. Знакомые интонации, знакомая артикуляция. Что даже слегка удивило — немало моих словечек и оборотов. А вот по той, где готовилась, — у неё была не своя лексика. Мишина лексика была. Мишина логика была. И не просто лексика… Артикуляция голоса другая. Ни характерного растягивания «а» в последних слогах, ни подъёма голоса на ключевых словах фразы. Невыразительный голос был на этой струе. Мёртвенький.
Второе — ну это понятно, мощный комплекс вины светился отовсюду, вот всё время изо всех углов и выскакивали матушка и наркотики. Но — с перебором ведь выскакивали. Больше, чем было бы объяснимо. Как только сказал себе эти слова — новое ощущение не то чтобы окрепло, оно сразу в полную мощь возникло, и стало удивительно, почему сразу не увидел? Все полтора часа разговора — Ленка панически боялась. Боялась чего-то, что намного страшнее самых скользких тем. Свалы на матушку и на наркоту были, кроме все прочего, ещё и способом увести в сторону разговор, краем коснувшийся причины этого страха. Но ни одного разумного предположения я так и не смог сделать. Увод темы всякий раз срабатывал на слишком дальних подступах, чтобы хоть как-то обрисовалась ту область, в которой можно было поискать ответ. Ноль. Сейчас я, пожалуй, думаю, что это связано с тем, кто и зачем тогда подсунул Ленке именно Мишу. В следующих беседах — эта тема была чуть ли не единственной, которую Ленка обрубала сразу.
Третье, что стало вдруг понятным, — наличие проработанного плана разговора, более того — наличие цели разговора. Более того – нескольких альтернативных целей. Как только одна из них становилась достижима — разговор шёл в эту и только в эту сторону. Как только одна из них была достигнута (моё обещание не звонить и не писать) — разговор был свёрнут. Чувствовалось наличие не менее чем двух других вариантов. В общем получалось, что вела разговор именно Ленка, а сам разговор был сложен из мозаики домашних заготовок. Было несколько целей-ловушек, каждая из которых устраивала Ленку в равной степени. Были определены и «антицели», сама возможность их появления в разговоре вселяла ужас. Ленка лишь балансировала, причём виртуозно, направляя разговор так, чтобы шарик катился в сторону одной из целей и не приближался ни к одной из антицелей. Как только я вставлял что-то, не предусмотренное домашними заготовками, — ответ шёл невпопад и новое направление немедленно тухло. Полностью игнорировались предлагаемые мной темы. А я не мог перехватить управление разговором даже на несколько минут.