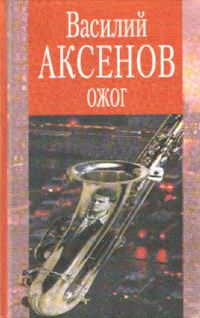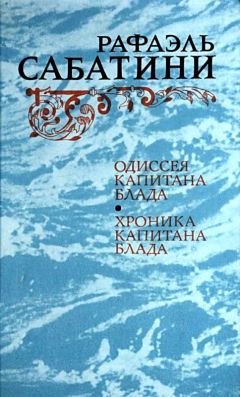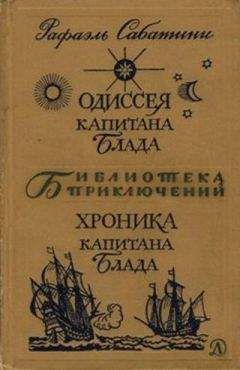– Вы хотите сказать, что ваше решение остаться на Западе вызвано этой причиной?
– Это лишь одна из причин, но, может быть, самая главная.
– В чем заключалось ваше сотрудничество?
– Они хотели иметь информацию о настроениях моих товарищей и вообще творческой интеллигенции.
– И вы давали эту информацию?
– Я старался не повредить порядочным людям. Чаще всего мне удавалось это сделать, но иногда они вели звукозапись наших бесед.
– Игорь Евстигнеевич, мы договорились, что вы можете отвечать не на все мои вопросы.
– Нет, я отвечу на все. Я хочу сбросить с себя всю грязь!
– Благой порыв. Ну что ж… Вы знали, когда велась звукозапись?
– Нет… да… иногда я догадывался…
– Понятно. Скажите, господин Серебро, почему вы именно сейчас попросили политического убежища? Ведь вы много раз и раньше бывали на Западе, не так ли?
– Жизнь в нашей стране становилась все более удушливой после политических процессов, после оккупации Чехословакии и возрождения духа сталинизма. Мой идеал демократического социализма был полностью разрушен. Все наше движение шестидесятых годов погибло, новая волна превратилась в лужу.
– Вы причисляете и себя к этому движению?
– Мистер Айзенштук, вы меня удивляете! Я был одним из лидеров new russian wave!
– Подонок! Какой подонок! – вскричала Тамарка.
– Радик, он и на тебя стучал! – ахнула Кларка.
– Молчать, идиотки! – рявкнул Хвастищев.
Где-то в эфире, уже не очень далеко, прогревалась глушилка. Неподалеку колотилась песенка Чака Берри «Johnny be good».
– А ты сама, татарка шашлычная! – завопила вдруг и зарыдала Тамарка. – Я знаю, к кому ты ходишь на Кузнецкий мост!
– Ах ты, сука! – завизжала Кларка и вцепилась в волосы своей сестричке. – Я никогда про Радика ничего плохого не сказала, а, наоборот, говорю, что он в душе коммунист! Ах ты, шахна валютная, младший лейтенант!
– Я никогда, никогда! – рыдала Тамарка.
– Я никогда, никогда! – истерически всхлипывала Кларка.
Сквозь глушилку и Чака Берри вновь отчетливо прорезался голос лидера новой русской волны.
– …В последнее время они были недовольны мной. Я понял, что никогда не вырвусь на Запад, если чего-нибудь не придумаю. Они интересовались моим другом Радием Хвастищевым, известным скульптором-сюрреалистом. Я отправился к нему и захватил бутылку виски в полной уверенности, что получится полнейший абсурд. Хвастищев совершенно не занят политикой, это творческий импульсивный тип, а пьяные его речи, по сути дела, просто бред. Получилось не совсем так, но я написал нарочито абсурдную докладную, что Хвастищев – религиозный мракобес, держит связь с иезуитской разведкой Ватикана и затягивает в клерикальные сети писателя Пантелея, математика Куницера, врача Малькольмова и даже джазового музыканта Саблера. Я специально выбрал самых случайных людей из моих знакомых, чтобы получилась вполне абсурдная компания. Хвастищев никого из них ни разу в глаза не видел.
– И вам поверили?
– Сомневаюсь. Однако усердие было оплачено – меня выпустили в Англию. Теперь я свободен!
– Не дорогая ли цена за свободу, господин Серебро? Ведь у вашего друга – как вы сказали, Хвостова? – могут быть неприятности.
– О нет! Теперь, когда я обо всем рассказал по радио! Теперь ведь я уже, что называется, «предатель родины»… мне уже веры нет…
После некоторой паузы прохладный голос известного комментатора Абрама Гавриловича Айзенштука с оттенком брезгливости вопросил:
– Ну-с, и каковы же ваши планы, господин Серебро?
– Отбросить все! – вскричал Игореша с прежним вдохновением своим. – Все, что принес, – сжечь! Даже имя! Я буду новым человеком! Мне нужны только камень и резец! Я буду делать чистые отвлеченные формы! Никакой политики, никакой литературы, никакой философии! Я хочу влиться в клуб свободных художников Запада!
– Вам будет трудно, – проскрипел на прощание Абрам Гаврилович.
Началась «краткая сводка важнейших новостей дня». Гут только завыла во всю силу полоумная глушилка, захлестнула и вояжи Киссинджера, и заявление Реза Пехлеви, и торговые сделки Патоличева, то есть то, что могла бы спокойно и не глушить.
Хвастищев отполз в угол своего огромного ложа и первым делом почему-то натянул трусы. На другом конце лежбища визжали и колотили друг друга его любимые.
– Перестаньте, девочки, – поморщился он. – Чего распсиховались? Подумаешь, большое дело, что и Кларку завербовали. Такая в мире сложилась серьезная ситуация. Если уж даже Игорек двенадцать лет был стукачом, то красивым блядям, видно, на роду написано. Смирение, проституточки мои, учитесь смирению у нашего динозавра.
Девки затихли и уселись, поджав ноги и глядя на своего набоба. Глаза их поблескивали в темноте. Выла глушилка.
Когда мы с ним были в Ясной Поляне? Посмотри, Хвастище, говорил он, вот могила Льва Николаевича. Слева белый лес, а справа – черный, а наверху переплелись белые и черные ветви. Естественная церковь! Мне не хватает вон там наверху в том углу маленького портрета Иоганна Себастиана Баха, выложенного цветным стеклом, как в лейпцигском соборе святого Фомы. Ты любишь эти огромные куски толстовской прозы, лежащие вне драматургии? Они похожи на музыку Баха. Толстой был бы отличным скульптором в своей блузе и с этой своей бородой, ей-ей, не хуже Коненкова! У него были крепкие руки скульптора, вкус к дереву и металлу. В России не было великих скульпторов. Если бы Толстой стал скульптором, он все равно остался бы Толстым. Жаль, что он не стал скульптором, друг Хвастище!
Когда мы были с ним в Ясной Поляне? Наверное, тринадцать лет назад, когда он еще «не давал информации». Впрочем, нет – одиннадцать лет назад. Тогда он уже был стукачом.
Когда мы с ним впервые пришли к Эрику Неизвестному? Он спросил тогда у Эрика про «Раздавленного взрывом» – что это значит, есть ли здесь символ, не символ ли это нашего поколения? Нет, это не символ, ответил Эрик, это просто человек, раздавленный взрывом противотанковой мины. Ваше поколение этого не знало. Это было четырнадцать лет назад, и Серебро еще не был тогда стукачом.
Игореха! Да ведь сколько раз мы с ним вместе издевались над стукачами! Да мы ведь не раз даже били их!
– Радичка, – жалобно позвала Тамарка. – Ты, наверное, кушать хочешь? Пора уже вечерять. Давай я тебе яишенку с помидорами сделаю?
Какая украинская старенькая мама!
– Радька, я за батоном сейчас сбегаю! – как ни в чем не бывало подскочила Кларка.
Экая шустрая студенточка!
– Смирно, товарищи офицеры, – сказал Хвастищев и включил весь свет в спальне и в мастерской.
Очень сильный свет. Все стали белыми, как плохо проявленная фотография. Публичный дом. Противные белые тела красивых сук.
– Девки, помните, Серебро как-то приносил бутылку «Джони Уокера»? Где она? Не вылакали еще?
Тамарка тут же бросилась куда-то – голая, тонкая, белая, «ка-ри-очи-чорни-брови», прямо хоть снова ей втыкай! – и протянула ему ту самую бутылку, о которой только что Игореша Серебро рассказал мыслящему человечеству.
– Правильно, Радик! Трахни ее об стенку! Чтоб духу ее не было здесь у нас!
Хвастищев взял бутылку, прочел все надписи rare Scotch whisky by appointment of Нег Majesty… отвинтил пробку с весело шагающим оптимистом в белых штанах, заглянул для чего-то внутрь, затем встряхнул и начал глотать.
Сразу после первых глотков он понял, что возвращается прежнее время – таинственные, как юношеский онанизм, вечера, одушевление предметов, предчувствие любви и пыльные удушающие утренники в «Мужском клубе».
Девки, обнявшись, плакали над ним, выли в голос, как над покойником.
Ну давайте же в самом деле чай пить
как посоветовали товарищи!
Замухрышка Верочка подсела к Куницеру со стаканом бледного чаю. Он заметил у нее на пальце кольцо с бриллиантами. Не меньше чем на две тысячи тянуло такое кольцо. Когда-то он был женат и дарил своей жене подобные вещи.
– Скажите, Аристарх, а где сейчас Натали?
– ?
– Я имею в виду вашу жену, мы были когда-то знакомы.
– Мать моих детей сейчас далеко отсюда, в «обществе равных возможностей».
– В Штатах?
– Да… в этом смысле… где-то там… в Бразилии…
– Она уехала через Израиль? А что же вы, Арик? Застиранное платье замухрышки Верочки и кофточка
из магазина «Синтетика» пахли духами «Мадам Роша». Верочка, милейшая женщина, лет сорока, по-свойски тепло и не сентиментально придвинулась, локоть положила на стол и подбородок в ладонь и ненавязчиво заглянула в глаза.
– Муж матери моих детей – талантливый сионист, а я ведь русский, Верочка, хотя это вам покажется странным, и фамилия моя происходит от русского слова «куница». Это в далеком прошлом я был слегка еврей, а сейчас передо мной большое будущее.