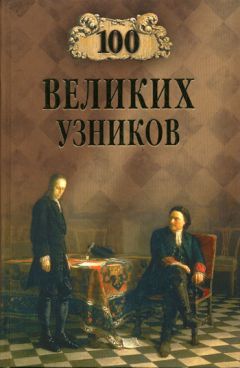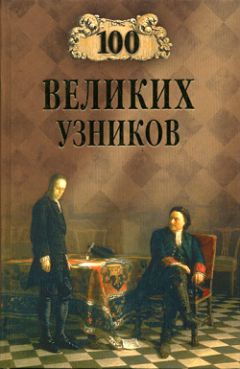Через месяц И. Н. Мышкина снова вызвали на допрос, после чего в свою камеру он уже не вернулся.
В предыдущих главах уже не раз говорилось о том, что шлиссельбургские узники были лишены всего. Тюрьма была похожа на склеп, заключенные ни о чем и ни о ком ничего не должны были знать, и никто не должен был знать о них. Из людей они видели только жандармов — с масками вместо лиц и глухих, как статуи, ко всем их страданиям. Жизнь арестованных протекала в убийственном однообразии — жизнь почти призрачная, которая казалась сном без сновидений. Неудивительно, что одиночное заключение тяжело отражалось на психике узников. Они стремились к общению друг с другом, перестукиваясь по определенной системе, но за это их наказывали, и порой очень жестоко. Жизнь была бесцветной, без всяких событий, и потому недостаток внешних впечатлений они с избытком пополняли воспоминаниями и мечтаниями, которые зачастую принимали болезненную форму. Узник намечтает себе какой-нибудь сюжет, а потом дорисовывает его в своем воображении до подробностей, столь навязчивых, что доходит до умственного изнеможения. Отчаянным усилием воли ему порой удается прервать цепь мечтаний, но через некоторое время "грезы безумные" вновь начинают неотступно преследовать его.
Два смертных приговора тяготело над Н. П. Щедриным. В мае1881 года он был приговорен к смерти по делу Южно-Русского рабочего союза, но тогда казнь заменили ему вечной каторгой на Кару. По дороге туда, в Иркутской тюрьме, он узнал, как бесстыдно обращается с политическими каторжанками местный тюремщик, и решил заступиться за женщин. Улучив удобный момент, Н. П. Щедрин во время арестантского осмотра в присутствии заключенных и тюремной стражи дал ему пощечину, не испугавшись бесчеловечных истязаний и долгих месяцев темного карцера. Новый судебный процесс снова приговорил его к смертной казни, которую и на этот раз заменили вечной каторгой, дополнительно приковав Н. П. Щедрина к тачке, с которой его и препроводили в Алексеевский равелин.
Равелин он вынес, но долгие годы одиночного заключения в Шлиссельбурге оказались сильнее железной воли Н. П. Щедрина, и он сошел с ума. Его камера заполнилась призраками, жуткие чудовища окружили узника, мучили и терзали его. На всю тюрьму раздавались его дикие вопли и страшные крики, а в тюремном рапорте бесстрастно сообщалось, что "арестант № 3 возбужден, раздевается догола, лает по-собачьи". Болезни его не верили, и О. Гинзбург в своих "Записках" впоследствии вспоминала: "Жандармы для времяпрепровождения останавливались у его дверей и начинали всячески издеваться над ним, доходя до невероятных животных гнусностей". А узнику казалось, что к нему так часто заглядывают в камеру для того, чтобы "иссушить его умственные способности; что половина его головы уже пропала, поэтому во что бы то ни стало он должен спасти вторую половину, не давать смотреть на нее. Но сделать это очень трудно, так как за ним смотрят не простые жандармы, а "особенные", которые знают всю современную науку".
Чтобы "спасти вторую половину головы", Н. П. Щедрин мешал жандармам заглядывать в окошечко своей камеры, а это уже нарушение тюремного режима. Арестанта связывали и уносили в тюремный карцер. Затем нервная болезнь его стала усиливаться: он стал "слышать стук в подземелье" (т. е. под полом. — Н.И.) и видеть, что вся стена его камеры оплевана "в насмешку над ним" и т. д. Одалживаться у жандармов узник ничем не хотел: они приносят еду — он не станет ее есть. Они отмыкают на ночь постель — он не будет на нее ложиться: голый, голодный ляжет на холодном полу! Впрочем, иногда у Н. П. Щедрина наступали минуты просветления, и тогда он жаловался, что во время припадков жандармы избивают его. Со временем им овладела идея издавать здесь, в камере Шлиссельбурга, собственную газету "Эхо". Конечно же, назло жандармам! А на доход от нее начать новую жизнь…
Увлеченный этой идеей, Н. Щедрин стал вести себя тише: целыми днями сидел в камере и на клочках бумаги писал статьи для своей газеты, а потом "продавал" ее жандармам и другим заключенным. Тюремный врач отмечал, что "во всех его писаниях — везде самомнение, нигде и ни в чем нет сомнений и колебаний в каких-либо мнениях, везде его слова — сама истина". Занятый своими мыслями, арестант несколько лет вообще не выходил из камеры, только в последние годы стал покидать ее. В таких случаях он приделывал себе шпоры, нацеплял перья и на всех смотрел свысока. Узник считал себя великим и выдающимся человеком и воображал, что он — то "лорд", то "светлость", то "царь царей". Сообщения о болезни Н. П. Щедрина доводились до сведения императора, но все оставалось по-прежнему. И целых 15 лет тот томился в заключении, будучи душевнобольным.
В. П. Конашевич, обвиненный в убийстве, был приговорен к смертной казни, которую ему заменили на пожизненное заключение. Когда его доставили в Петропавловскую крепость, он был еще очень молод (20–21 год), обладал богатырским телосложением, исключительной физической силой и железным здоровьем. Правда, еще до суда страдал галлюцинациями и думал, что следователи хотят его загипнотизировать, чтобы все у него выведать. Потом он выздоровел и до 1889 года был вполне здоров, даже стал писать какое-то научное сочинение с целью осчастливить весь мир. Однако улучшение психического состояния узника было кратковременным. В Шлиссельбургской крепости его болезнь стала развиваться, и тюремный врач в рапорте отмечал, что "арестант № 30" постоянно жалуется на шум и беспокойство, большую часть ночи вообще проводит без сна, при этом возбуждение нервной системы доходит у него до максимума.
Из камеры В. П. Конашевич почти не выходил, к себе редко кого допускал. То он пел на всю тюрьму, то плясал, то свистел. А потом добился, чтобы ему доставили скрипку, и утверждал, что сочинил гениальную пьесу. И если бы ему позволили ее где-нибудь сыграть, особенно в Санкт-Петербурге на площади, то люди под влиянием его музыки поняли бы, что все они — братья. А, поняв это, освободили бы из этой проклятой тюрьмы всех заключенных. "А когда я буду на свободе, я устрою ряд (далее неразборчиво. — Ред.), при которых сам, без всякой помощи, построю величественный собор во имя Александра и дворец государю".
Тетради В. П. Конашевича, написанные карандашом, содержали и философские рассуждения, и практические распоряжения:
Эту тетрадь прошу передать брату моему Федору Григорьевичу и дяде по матери… Они распорядятся изложенными здесь идеями по своему усмотрению. Я просил бы земский собор признать их наследниками моих родовых прав… Здесь есть металлический дом, изобрешенный мною, очень дешевый и удобный для крестьян. Прошу вас, господин комендант, передать также и это начальству для сообщения Его Величеству. Исследователи отмечают, что тон прошений В. П. Конашевича далек от унижений Да, он находится в положении узника — в тюрьме, но зато совершает здесь великие открытия, способные осчастливить не отдельного человека, а весь мир. Подземная дорога, паровая баня, металлический дом, принцип переложения бесплотных идей в механические силы и т. д. — все это столь великие благодеяния для человечества, что справедливо бы дать свободу их изобретателю. А между тем его продолжают мучить в одиночном заключении, где подвергают страшным испытаниям, заставляют терпеть голод, холод и смирительную рубашку. К тому же злые тюремщики не выпускают его записки из тюремной ограды, хотя они и адресованы самым высокопоставленным лицам…
Отсюда у В П. Конашевича развился новый ряд идей, и расстройство нервной системы выразилось у него в форме горделивого помешательства. Он — не только великий изобретатель, но и вообще великий человек особого происхождения: его предком является народный герой П. К. Сагайдачный, и потому отныне он будет именовать себя Конашевич-Сагайдачный. Своим ближайшим родственником узник считал и германского императора Вильгельма, и в своем новом "величии" писал настоящие декреты:
Во всякого, участвовавшего в моем задержании, каждый русский подданный имеет право стрелять, не будучи за это отдан под суд. Всякий, застреливший кого-нибудь из лиц, участвовавших в моем задержании, получит после моего освобождения миллион награды. По освобождении отсюда, из-под замка, я передам остров Борнео на вассальных условиях… княжне Ксении. Вильгельм Германский, мой родственник, сочувствуя мне, также соглашается принять от меня право на участие в этой кампании, за что я ему глубоко благодарен…
Но моменты горделивого "величия" проходили, наступало прозрение, и к своему ужасу В. П. Конашевич сознавал, что сходит с ума. Чтобы оградить себя от дальнейшего развития болезни, он просит прислать ему произведения Т. Г. Шевченко и малорусский словарь и уверяет, что "такие занятия родной поэзией и языком, наверное, принесли бы мне облегчение". Но вскоре опять пошли записки и прошения о том, что он открыл способ вечно доить салом свиней и овец и изобрел для этого снаряд, который, давя сало из овцы, не будет мешать ей жить.