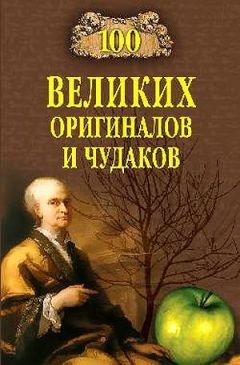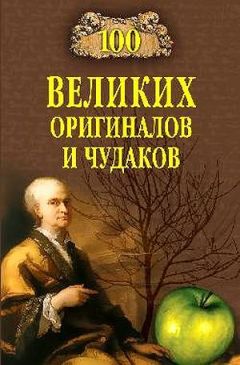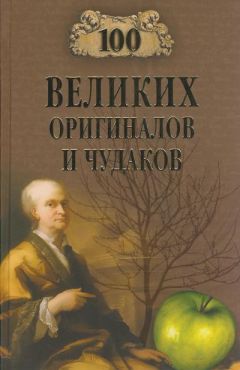„Я остался один, без дружбы и любви, — констатировал Владимир. — Мой ум принял серьёзное направление“. Добавим: как ему казалось. Он перечитал несколько раз собрание изречений знаменитых мыслителей древности. Пришёл к заключению: „Внутренняя доблесть и независимость духа прекраснее всего на свете… и я сделался стоическим философом“. Вот ведь как просто: прочитал несколько мудрых изречений — и тотчас сделался стоиком! В зрелые годы Печерин только добавил: „Я и теперь думаю, что это единственная философская система, возможная в деспотической стране“.
Очень характерное отношение к философским убеждениям! Это для него не принципы жизни, не основания поступков, не руководство к действиям, а игра ума, способ приспособления к реальности, находясь к ней в тайной оппозиции.
Он прочёл статью Вольтера о добродетельных квакерах (протестантской секте) и послал письмо Филадельфийскому обществу квакеров, прося принять его. „Не было ни семейной жизни, ни приятных родных воспоминаний; родина была для меня просто тюрьмою, без малейшего отверстия, чтобы дышать свежим воздухом“. Нет, отверстие было: западноевропейская литература, возбуждавшая в нём мечты об иной жизни и отвращение к России.
Отец хотел записать его на военную службу. Маменька желала дать сыну наилучшее образование. Сам он панически боялся служить, полагая, что это его погубит физически и нравственно.
Однажды отец позвал его к себе, протянул пакет и сказал:
— Даю тебе 500 рублей. Поезжай в Харьков и купи себе диплом.
Владимир едва сдержался и постарался ответить с достоинством:
— Благодарю, но я ищу не диплома, а научных знаний.
Приведя этот эпизод, Печерин подчеркнул: „Но как же это рисует русские нравы, русский взгляд на вещи! В других странах стараются развить человека, а у нас об одном хлопочут — как бы сделать чиновника, а после этого хоть трава не расти“.
Из частного случая — хула на все русские нравы и хвала другим странам. Словно там никто никогда не покупает дипломы, а у нас — все и всегда. Словно там стараются развить человека, а тут — унизить до состояния чиновника и холуя.
Спору нет, в русском обществе, как в любом другом, присутствовало стремление к званиям и чинам, добываемым с помощью денег и знакомств. Было пресмыкательство перед властью, приспособленчество (и поныне так). Позже Печерину довелось убедиться, что и на любезном его сердцу Западе дела обстоят так же, хотя и лицемерней.
Итак, пользуясь — незаслуженно — благами своей страны, он презирал её. Его не беспокоил собственный паразитический образ жизни, а возмущало, что он, „молодой человек 18 лет, с дарованиями, с высокими отрешениями, с жаждою знания“ вынужден прозябать „без наставника, без книг, без образованного общества, без семейных радостей, без друзей и развлечений юности, без цели в жизни… Ужасное положение!“
Этот привилегированный диссидент менее всего заботится о том, чтобы дать что-то хорошее Отечеству и народу, чтобы преодолевать трудности. О своих обязанностях перед обществом он не думал. Вновь и вновь восхищался иноземными нравами:
„В Англии, в Америке — молодой человек 18 лет, преждевременно возмужалый под закалом свободы, уже занимает значительное место среди своих сограждан. Родися он хоть в какой-нибудь Калифорнии или Орегоне — всё ж у него под рукою, все подспорья цивилизации. Все пути ему открыты: наука, искусство, промышленность, торговля, земледелие и, наконец, политическая жизнь с её славными борьбами и высокими наградами, — выбирай, что хочешь! Нет преграды. Даже самый ленивый и бездарный юноша не может не развиваться, когда кипучая деятельность целого народа беспрестанно ему кричит: вперёд! Он начинает дровосеком в своей деревушке и оканчивает президентом в Вашингтоне! А я — в 18 лет едва-едва прозябал, как былинка, — кое-как пробивался из тьмы на божий свет; но и тут, едва я поднимал голову, меня ошелошивали русскою дубиною“.
Тут немало несообразностей. Именно у Печерина были прекрасные возможности для любой деятельности. Ему не надо было идти из глухой деревни в Москву, как Ломоносову, служить солдатом, как Державину, или офицером, как Лермонтову. Глупа история о том, как „самый ленивый и бездарный юноша“ благодаря кипучей активности народа становится президентом. Забывает он о том, как много юношей, в особенности с чёрным цветом кожи, трагически гибнут при „демократии“ (в середине XIX века в Америке процветало рабовладение), а богатство Британии основано на порабощении и ограблении колоний.
Он зачитывается Байроном, из революционной поэзии которого черпает не идеи о подлости буржуазного общества или о мировой дисгармонии, а лишь дополнительную толику ненависти к России. Пишет:
Как сладостно отчизну ненавидеть,
И жадно ждать её уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирною десницу возрожденья!
(Это вполне согласуется с убеждённостью „перестройщиков и реформаторов“, разрушавших Великую Россию и самосознание народа.)
Судьба Печерина показывает, как много в нашей жизни значат идеалы и как можно не себя возвышать до них, а их приспосабливать к личным потребностям. Этот человек получил в России высшее образование, окончил Петербургский университет с отличием, два года стажировался в Германии. Вернувшись в Россию, преподавал в гимназии и университете, писал научные статьи, переводил Шиллера и античных авторов.
В одну из поездок за границу он решил не возвращаться. Четыре года скитался по Западной Европе, увлекался учениями республиканцев, социалистов, анархистов. Это не внесло успокоения в его душу, да и привык он более мечтать, чем действовать. Принял католичество, стал монахом, а затем и священником. Жил в Швейцарии, Германии, Франции, Англии, Ирландии. Прославился как проповедник.
В нём никогда не угасала жажда познания. Он изучил ряд языков, был хорошим переводчиком, интересовался естествознанием. Его можно считать одним из наиболее просвещённых, оригинальных и одарённых людей своего времени.
Скончался он в Дублине. Главный его труд — исповедь, написанная на закате дней: „Замогильные записки“. Завершаются они так: „Ах, как бы мне хотелось, как бы мне хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской!“
Не сбылось! Он пытался убежать от деспотичного отца, из деспотичного Отечества. Хотя более всего ему вредил затаённый, а потому и наиболее опасный деспотизм маменьки и заёмных идей. Он лишился главной опоры в жизни: родимой земли, родного народа, русской культуры. Возможно, несмотря на свои шаткие убеждения и юношески-наивные мечтания о заморских странах, в глубине души он всё-таки оставался русским.
Пример Печерина поучителен. Оригинальная, незаурядная личность, не лишённая дарований, — он так и не проявил себя в творчестве. А его современник Михаил Лермонтов достиг великих высот в поэзии и прозе, да и художником был хорошим, прожив сознательной жизнью всего 20 лет, тогда как Печерин — почти 70!
Бугров Николай Александрович (1839–1911) был самым влиятельным лицом в Нижнем Новгороде и всей губернии. „Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии барж, огромных лесов“. Так характеризовал его М. Горький. На примере этого купца и предпринимателя видно, что с конца XIX века в царской России власть капитала была решающей.
Бугров открыто поддерживал старообрядцев, „беспоповцев“ и тайные сектантские скиты. По словам Горького: „Глава государственной церкви, нигилист и циник Константин Победоносцев писал… доклад царю о враждебной, антицерковной деятельности Бугрова, но это не мешало миллионеру упрямо делать своё дело. Он говорил „ты“ взбалмошному губернатору Баранову, и я видел, как он в 96 году на всероссийской выставке дружески хлопал по животу Витте и, топая ногою, кричал на министра двора Воронцова“.
Прочитав повесть Максима Горького „Фома Гордеев“, Бугров, как сообщили автору, отозвался резко: „Это — вредный сочинитель, книжка против нашего сословия написана. Таких — в Сибирь сослать, подальше, на самый край“. Повесть задела Бугрова за живое, и он пожелал встретиться с её автором. Но Максим Горький, наслышанный не только о добрых, но и скверных делах „миллионщика“, отказался от встречи.
Тем временем к писателю обратилась женщина, желавшая уехать к своему другу, заболевшему в ссылке у Полярного круга. Ей требовалась крупная сумма, которой у Горького не было. После неудачных попыток занять деньги у знакомых, он вынужден был обратиться к Бугрову.
„С лица, измятого старостью, — вспоминал писатель, — на меня недоверчиво и скользко взглянули маленькие усталые глазки, веко одного из них было парализовано и отвисло, обнажая белок, расписанный красными жилками, из угла глаза, от переносицы, непрерывно текла слеза. Зрачки показались мне мутными, но вдруг в них вспыхнули зелёненькие искры, осветив на секунду это мордовское лицо умильной усмешкой. И пожимая руку мою пухлой, но крепкой рукою. Бугров сказал: