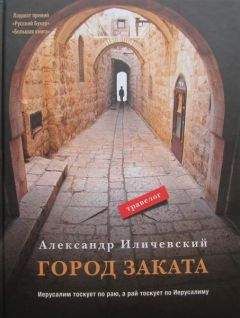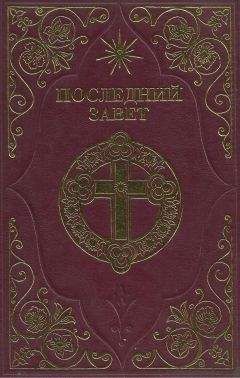В вольере лупоглазо, гордо и тонконого вышагивает мышиный олень — не мышь и не олень, но самый маленький из живущих на планете артиодактелей, с четным количеством пальцев на копытах, ужасно древний родственник китов, верблюдов и гиппопотамов, всего три фунта весом.
Заменяющая в обиходе таксу аргентинская рептилия — черно-белый тегу — спокойно дается в руки и, весь шершаво-приятный, сидит, щекоча запястья длинным раздвоенным языком.
На горе сквозь прореху в сводах третьего яруса тропического леса проглядывает Иерусалим. Устрашающая птица-носорог, чей массивный клюворог напоминает салон первого класса Boeing-747, и зеленый древесный питон, замысловатым корабельным узлом обвивший акацию, дружелюбно провожают тебя из вольера.
Оказывается, в ручьях, стекающих со склонов Иудейской пустыни в Мертвое море, водится эндемичный, то есть не встречающийся более нигде на планете, зубастый карп. Существование этой небольшой серебристой, с крупной, как даймы, чешуей рыбки под угрозой исчезновения давно — с того времени, как уровень Мертвого моря начал понижаться.
Кенгуру медленно передвигается по пастбищу, подтягивая задние ноги-палки. Хвост его — одна сплошная мощная мышца, опора; кенгуру весь похож на инвалида: передние лапы — культи, задние — протезы, хвост — костыль. Но когда побежит — только его и видели, точно на параолимпийских играх.
И самое главное. Звери в зоопарке абсолютно свободны. Места их обитания — не морилки, как в иных зверинцах. Здесь — в такой неволе — продолжительность жизни больше, чем в дикой природе. Антибиотики, регулярная кормежка и нестесненность делают свое дело: срок жизни сокола в дикой природе — 3–5 лет, в неволе — 25–30.
На обратном пути снова оказываешься у водоплавающих и замираешь. Кругом — белым-бело. Туча белоснежных египетских цапель, зобастых и с нежно-желтыми длинными клювами, уселась на воду и ветви деревьев: стая эта перелетная, видимо, оказалась привлечена дармовой кормежкой. Черные и белые гуси-лебеди оглушительно хлопочут крыльями. Стая фламинго: птицы стоят, не шелохнувшись, на одной ноге, с изящно свернутыми под крыло, как шарфы, шеями.
С лягушачьим ртом и с длинными ресницами серебристое австралийское чудище — иглоногая лающая сова (tawny frogmouth). Летучая лисица — сероголовый фруктовый нетопырь размером с фокстерьера (grey-headed fruit-bat). Стая этих бэтманов висит на ветвях вверх ногами; нетопыри похожи на укутанных в плащи седых карликов-чернокнижников. Шлемоносные казуары (double-wattled cassowary) больше напоминают птеродактилей, чем индюшек или страусов.
Великолепный детский сквер — выделанные эмалью, глазурной керамикой и поделочными камнями ажурные скульптуры зверей, по которым внутри и снаружи ползают дети. Тактильные ощущения и текстуры для детей важней фигур. Дети не видят формы, они видят поверхности. Близость зрительная господствует в трех-четырехлетнем возрасте: чаще от раннего детства остается узор на обоях, а не вещи.
Булькающие брачно-демонические вопли приматов. Стеклянные колпаки в вольерах сурикатов и байбаков, куда дети могут подлезть по тоннелям и оказаться лицом к лицу со зверьками. Лемуры с вертикальными хвостами, бесшумно спускающиеся с ветвей большеглазой устрашающей толпой на запах кусочка пиццы.
И один из немаловажных персонажей зоопарка — ландшафт. Задник его с любой точки живописен — видно высоко и далеко: белокаменные обрывы и террасы; а утопшие в зелени и обустроенные вольерами склоны ущелья создают впечатление неисчерпаемого разнообразия их обитателей.
Иерусалимский зоопарк больше похож на заповедник. Кажется, только в иудаизме есть заповедь благословлять прекрасное явление природы и зрелище удивительных животных — слона, носорога, жирафа. Мне всю жизнь кажется невероятным, что в природе существует жираф; его поступь и грация — вне моего разумения.
Библейский Ноев ковчег — прообраз зоопарка, и иерусалимского в особенности: мир должен быть спасен не только вместе с человеком, но и со всеми его творениями. Экологические идеи в основе своей тоже исходят из Танаха: запрет рубить плодовые деревья, запрет убивать птиц, вынимая яйца из гнезда, и т. д.
Флегматичный носорог, весь закованный в бронированные латы, чья мощь и свирепость известны еще из книги Иова, написанной задолго до Брема, сталкивается с собратом над охапкой сена. Раздается жуткий утробный рык, подобный шофару, заставляя сердце подскочить в горло, один из зверей отходит подальше и снова застывает, прищурив свои круглые глазки, глядя в незримое.
К дороге на Хайфу вплотную подступает море, и машина взлетает на гору Кармель. На верхнюю террасу Бахайских садов не пускают, но и по нижней, с ее розоватым крупным щебнем, рассыпанным по парковым дорожкам (только через пару веков он сотрется, раскрошится, погрузится в почву), можно составить представление о гробнице Баха-Уллы — пророка новой религии, в XIX веке открывшейся человечеству в Иране. Баха-Улла стал источником надежды великого будетлянина Велимира Хлебникова на то, что исламский Восток способен стать плодородной почвой для метафизического обновления мира. Атеистическая Россия поэта не устраивала именно из-за своей глухоты к метафизике; он не мог смириться со статусом футуриста, художественного провозвестника будущего: в своем знаменитом каспийско-персидском походе 1920 года, подражая Баха-Улле, он стремился реализовать себя как Властелин Времени, как пророк. Теперь бахаи есть даже в Харькове. Правда, в единственном числе.
В Хайфе доступ к гробнице Баха-Уллы оказался закрыт, а всё, что удалось рассмотреть вокруг, с очевидностью бросало вызов роскоши дворцовых садов Шираза, чьему искусству вторили когда-то ландшафты вилл первых нефтяных магнатов Апшерона. Но никаких фонтанов, только вензельно витиеватые скульптуры, их напоминающие: чаще всего целующиеся голуби. Стройные, как копья, кипарисы, филигранно выстриженные кустарники, цветистая многообразность и выверенность растительной палитры длинных клумб, величие мраморных парапетов и ажурность решетки — стилистически напомнили пространство тщательно прописанного фэнтези, чья рафинированность есть залог преобладания условности над достоверностью. Здесь хорошо грезить, подумал я, и тут же представил, что вижу вокруг рай ассасинов, или «Гелиополь» Юнгера; что ж, было бы забавно оказаться и там и там, но только ненадолго, ибо никогда не был способен читать фэнтези далее второй страницы.
С Кармель скатиться на пляж под заходящее над волнорезом солнце. Поезд, протяжно гудя, упруго мчится вдоль берега. Горизонт затоплен смуглым золотом. С подветренной стороны бухты парни, толкая перед собой доски, гурьбой кидаются ловить волну, вдруг восставшую из прибойного ряда огромным горбом, подобно загривку Черномора.
Колоритный дед — бородач в сомбреро — ходит по пляжу с металлоискателем, как косарь. Говорит, что доход приносят не монеты, а драгоценности, которые купальщицы теряют на пляже: иногда к нему подходят женщины и просят найти оброненную сережку, показывают примерное место утраты и, если находит, — вознаграждают.
Красивая женщина с умным лицом прищуривается на закатывающееся солнце поверх обложки английского перевода Зебальда.
Кирьят Вольфсон — квартал англоязычный, богатый, строгий и добрый. Нигде в Рехавии не перегораживают улицы в субботу, как здесь. Нигде в Рехавии требовательные мамаши в париках не отчитывают детишек: Calm down! I said, just calm down! И только в этих краях так распространены прачечные — недешевая услуга, пришедшая из американского образа жизни большинства обитателей. И только здесь в съемных квартирах хозяева скупятся установить стиральную машину, ибо, вероятно, не желают лишать постояльцев удовольствия, к которому они привыкли там, откуда прибыли. Посещение прачечной в Америке своего рода моцион, только американцам может сниться Laundry, и только в американской поэзии существует великое стихотворение, действие которого происходит среди мокрых рубашек и простыней (James Merrill «The New Yorker», 1995). Прачечными и бакалейными лавками в Рехавии владеют в основном арабы, учтивые и отстраненные одновременно; впрочем, товар у них безупречен, хотя и недешев, а понаблюдать за тем, как они у входа, склонившись над ящиками, в медицинских стерильных перчатках проворно начиняют большие финики грецкими орехами, — одно удовольствие.
Случается на углах улиц в этом квартале, иногда снабженных скамьями и сквериками, услышать разные истории. Неподалеку обитает сухопарая и милая Элиза, разговорившись с которой можно узнать, что она живет на два дома (второй в Париже). Элиза полька и цитирует Чеслава Милоша, высказывая сведенборговскую мысль, что в аду часто можно оказаться в реальности, что для этого не надо покидать этот мир, а случается, что только шаг за порог или невидимую ограду отделяет нас от преисподней. И тут же Элиза добавляет, что стихи — это всё, что она способна вымолвить по-польски, ибо старается не говорить на родном языке, поскольку когда-то получила травму, из-за которой отринула родную речь и приняла иудаизм; так же поступили ее родная сестра и племянница, изучающая теперь политику в Еврейском университете. «Польские гены, — грустно говорит Элиза по-английски, — единственные в мире гены, которые переносят антисемитизм на молекулярном уровне».