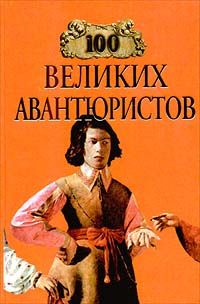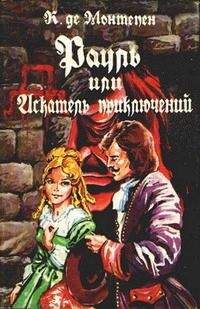Словно по ветру, почтовые несли его на север. Через месяц, за два дня до 14 декабря, он прибыл в первопрестольную, где ему надлежало служить в канцелярии генерал-губернатора.
Вскоре по городу поползли слухи, что по ночам идут аресты, хватают и вывозят в Петербург причастных к тем, кто вышел в декабре на Сенатскую площадь. Пришло известие, что взяты многие его русские друзья. Со дня на день ждал ареста и он. Неожиданно пахнуло ледяным сибирским холодом. «Что-то творится в Одессе? — беспокоился Мицкевич. — За кем из наших захлопнулась дверь каземата? Кто пал жертвой Витта и его агентов?»
Как потом стало известно, одним из первых поляков, принадлежавших к тайному обществу, был арестован Антоний Яблоновский. За ним следили и взяли прежде других. Впрочем, его судьбу решили еще зимой два слова Собаньской. На вопрос Витта об источнике добытой ею информации она небрежно бросила: «Князь Антоний проболтался». Беспечность и легковерность дорого ему обошлись. Спустя годы Витт признал, что получил сведения «благодаря разоблачениям одной женщины», читай, Собаньской.
После ареста Яблоновского клубок начал быстро разматываться. Взяли многих из поляков. Задача властей облегчалась тем, что в их руках находился список польских конспираторов, с которым в свое время неосторожно обошелся Яблоновский, да и его собственное поведение на следствии не отличалось сдержанностью.
В феврале Мицкевич начал ходить в присутствие. На душе было тяжело.
В тот год осенью польский поэт познакомился с Александром Пушкиным, недавно возвратившимся из Михайловского.
Стоило поэту объявиться в Петербурге, как и здесь вокруг завертелся хоровод осведомителей.
В это время в столице появилась Каролина Собаньская.
Однажды она пригласила к себе на чай обоих поэтов — Мицкевича и Пушкина. В тот вечер русский поэт был явно неравнодушен к хозяйке, женщине действительно очаровательной. А Мицкевич? Как вел себя он, какие чувства испытывал?
Он давно изжил в себе роковую страсть к Джованне. Теперь он пел песни иным кумирам.
Что касается Пушкина, то встреча с Собаньской всколыхнула в нем былое…
В губернском доме на Левашовской улице в Киеве протекала обычная светская жизнь. По вечерам, особенно в дни праздников, здесь собирался весь город. В толпе гостей оказался однажды и Александр Пушкин. Было это в мае 1820 года. По пути на юг к месту ссылки он проездом ненадолго задержался в Киеве. Вновь попал он в Киев в начале следующего года и прожил там несколько недель.
В пестром хороводе местных красавиц он сразу же выделил двух элегантных, прелестных полячек, дочерей графа Ржевуского. Обе были замужем, что не мешало им, кокетничая, обольщать многочисленных поклонников.
Младшей, Эвелине, исполнилось семнадцать, и была она, по словам знавших ее тогда, красивой, как ангел. Старшая, Каролина, отличалась не меньшей красотой, но это была красота сладострастной Пасифаи, она была на шесть лет старше Пушкина.
Величавая, словно римская матрона, с волшебным огненным взором валькирии и соблазнительными формами Венеры, она произвела на поэта неотразимое впечатление. И осталась в памяти женщиной упоительной красоты, обещавшей блаженство тому, кого пожелает осчастливить. Пушкин мечтал попасть в число ее избранников.
Но там, в Киеве, она вспыхнула кометой на его горизонте и исчезла. Однако не навсегда. Вновь Каролина взошла на его небосклоне, когда поэт неожиданно встретил ее в Одессе.
Пушкин увидел ее на рауте у генерал-губернатора, куда скрепя сердце Собаньскую иногда приглашали из-за Витта. Он сразу заметил ее пунцовую без полей току со страусовыми перьями, которая так шла к ее высокому росту.
Радость встречи с Каролиной омрачил Ганский — муж Эвелины. Заметив, с каким нескрываемым обожанием поэт смотрит на Собаньскую, как боязливо робеет перед ней, он счел долгом предупредить юного друга насчет свояченицы. Разумеется, он имел в виду ее коварный нрав, жестокое, холодное кокетство и бесчувственность к тем, кто ей поклонялся, — ничего более.
Пушкин не очень был расположен прислушиваться к советам такого рода, тем более что ему казалось, будто он влюблен.
Он искал с Каролиной встреч, стремился бывать там, где могла оказаться и она, ждал случая уединиться с ней во время морской прогулки, в театральной ложе, на балу. Иногда ему казалось, что он смеет рассчитывать на взаимность (кокетничая, Каролина давала повод к надежде). Ему даже показалось однажды, что он отмечен ее выбором. В день крещения сына графа Воронцова 11 ноября 1823 года в Кафедральном Преображенском соборе она опустила пальцы в купель, а затем, в шутку коснулась ими его лба, словно обращая в свою веру.
Воистину он готов был сменить веру, если бы это помогло завоевать сердце обольстительной польки. В другой раз он почти уверовал в свою близкую победу во время чтения романа, когда они вдвоем упивались «Адольфом». Она уже тогда казалась ему Элеонорой, походившей на героиню Бенжамена Констана не только пленительной красотой, но и своей бурной жизнью, исполненной порывов и страсти.
Через несколько лет он признался ей, что испытал всю ее власть над собой, более того, обязан ей тем, что «познал все содрогания и муки любви». Да и по сей день испытывает перед ней боязнь, которую не может преодолеть.
Не сумев растопить ее холодность, так ничего тогда в Одессе и не добившись, он отступил, смирившись с неуспехом и неутоленным чувством… И вот Пушкин вновь встретился с Каролиной Собаньской. Старая болезнь пронзила сердце. Ему показалось, что все время с того дня, когда впервые увидел ее, он был верен былому чувству. Лихорадочно набросал он одно за другим два послания к ней. Но так и не решился их отправить. Поэт доверил сокровенное листу бумаги («мне легче писать вам, чем говорить»). Перед нами в них предстает Пушкин, поклоняющийся Гимероту — богу страстной любви, сгорающей от охватившего его чувства.
В свой петербургский салон (где, кстати сказать, бывал фон Фок) Каролина привлекала таких поклонников, как Пушкин и Мицкевич, отнюдь не из-за честолюбия, а преследуя совсем иные цели — политического сыска. Как и в Одессе, ее столичный салон был своего рода полицейской западней, ловушкой. Поэтому и вела игру с Пушкиным, как когда-то с Яблоновским и Мицкевичем, распаляя его нетерпение и тем самым удерживая подле себя, чтобы облегчить задачу наблюдения за ним.
Однако страх разоблачения преследовал ее И все же нашелся человек, который приподнял завесу над неприглядной, позорной стороной ее жизни. В своих записках Ф. Ф. Вигель заявил, что Собаньская была у Витта вроде секретаря и писала за него тайные доносы, а «потом из барышей поступила она в число жандармских агентов». Это свидетельство мемуариста. И как признавал он сам, преступления, совершенные ею, так и не были доказаны.
Нельзя ли подтвердить эти обвинения каким-либо документом, свидетельствующим против Собаньской?
Надобность в услугах Собаньской отпала. Она вернулась в распоряжение Витта, а Пушкину лицемерный Бенкендорф заявил: никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за ним надзор.
Когда до Каролины дошли слухи о том, что Пушкин обвенчался, злая усмешка скривила ее губы. С досадой подумалось, что лишь у нее ничего не меняется. Надежды на то, что Витт наконец овдовеет, мало. Хотя и больная, его жена Юзефина может протянуть еще не один год. Значит, все останется по-прежнему. Поздно сворачивать с наезженной колеи. Придется тащиться пристяжной в упряжке Витта.
Для него главное — слава отечества и государя. Значит, и ей надо быть полезной им. Так рассуждала она и тем усерднее выполняла свои обязанности… Одно из ее донесений Бенкендорфу, посланное из Одессы, перехватили повстанцы Подолии. (В ноябре 1830 года началось восстание в Королевстве Польском, охватившее также некоторые другие прилегавшие районы, в том числе Правобережную Украину.)
Содержание этого письма шефу жандармов нам неизвестно. Но, видимо, это был очередной донос, поскольку, по ее собственным словам, оно вселило в сердца всех, ознакомившихся с ним, «ненависть и месть».
В эти тревожные дни, когда восстание распространилось на Волынь, Подолию и докатилось до Киевской губернии, Каролина отважилась навестить мать в Погребите.
Всюду на дорогах были сторожевые контрольные посты повстанцев. То и дело раздавалось: «Стой! Кто идет?» Услышав ответ: «Маршалкова ольгополевского повята», ее беспрепятственно пропускали. Тогда она убедилась, что фамилия Собаньских — лучший мандат для патриотов. Каролина улыбалась молодым полякам в свитках с барашковыми воротниками, в кунтушах навыпуск, а внутри ее душила ненависть к этим безродным ляхам. Лишь один-единственный раз ее подвергли досмотру на постоялом дворе между Балтой и Ольгополем. Но и то быстро отпустили, извинившись перед ясновельможной пани.