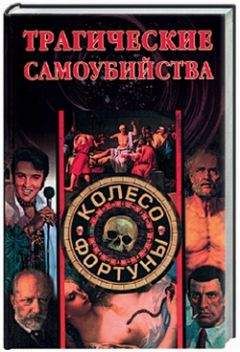Федор Михайлович, который отличался необычайной отзывчивостью и сострадательностью, конечно же, с содроганием узнавал о подобных несчастьях.
Знакомая Достоевского, писательница Л. X. Симонова-Хохрякова, в своих воспоминаниях рассказывала о нескольких беседах с Достоевским на тему самоубийства: «Федор Михайлович был единственный человек, обративший внимание на факты самоубийства; он сгруппировал их и подвел итог, по обыкновению глубоко и серьезно взглянув на предмет, о котором говорил. Перед тем как сказать об этом в „Дневнике (писателя)“, он следил долго за газетными известиями о подобных фактах, – а их, как нарочно, в 1876 году явилось много, – и при каждом новом факте говаривал: „Опять новая жертва и опять судебная медицина решила, что это сумасшедший! Никак ведь они (то есть медики) не могут догадаться, что человек способен решиться на самоубийство и в здравом рассудке от каких-нибудь неудач, просто с отчаяния, а в наше время и от прямолинейности взгляда на жизнь. Тут реализм причиной, а не сумасшествие“».
Кстати, в дневнике писателя, помеченном октябрем 1876 го‑ да, есть целая глава, посвященная двум самоубийствам. Среди прочего Ф. М. Достоевский пишет: «Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается, даже и нередко) – не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, – он прибегает к другого рода упрощению и просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противуположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий». Достоевский был уверен: в самоубийстве все, «и снаружи и внутри, – загадка». Иногда в жизни возникают опасности и конфликты, оказывающиеся страшнее самых кошмарных сновидений, и эти кошмары наяву нередко приводят человека к опасной грани, за порогом которой он надеется избавиться от ужасной реальности.
Вик д’Азир. Охота на бабочек
Издалека наплывал тяжелый, невнятный гул, напоминающий морской прибой. Вик д’Азир чувствовал, как он накатывается откуда-то из дальних лесов, становится все более угрожающим. Наверное, он темный и грязный от осенней пены и водорослей, погибших рыб и осьминогов. Сейчас прибой подойдет ближе, натолкнется на камни замка и снова отойдет далеко. Быть может, он не так уж опасен, как кажется… Вик с трудом открыл глаза, и окружающая реальность обрушилась на него, как молот. Значит, он все еще жив. Вик не сразу осознал, где находится. Его окружала темнота с пляшущими на стенах огненными отблесками. Красные блики пробегали по портретам его предков. Все деды и прадеды, ведущие происхождение от великого Конде, смотрели на него осуждающе. Они сберегли свой титул, отстояли владения, они сражались в Крестовых походах. Один из них получил меч от самого короля, другой бросился на этот меч, чтобы не попасть в плен мусульман, окруживших их войско неподалеку от Иерусалима. Боже мой, как это было давно… Как и рассказы о них молодого воспитателя-аббата. Как и его напутствия о том, что Вик не должен посрамить их славное имя и быть достойным великого Конде. Правда, Вик помнит, как через некоторое время проповеди аббата приобрели совсем другое направление. Его воспитатель зачитывался книгами Руссо и говорил, как прекрасно вернуться к природе, жить естественной жизнью. («Крестьянской, что ли?» – думал Вик, но ничего не произносил вслух.) Проповеди добрейшего аббата не оставили ни малейшего следа в его душе, как и захватившие все общество напряженные размышления о тяжкой доле простого народа. Вик любил поездки по ночному лесу, бешеный топот коня, шелест огромных нормандских дубов и журчание тайных источников. Ночью лес всегда преображался, и Вик, подолгу стоя у огромных менгиров, представлял, что вот сейчас из-за этого высокого кустарника покажется белый единорог, таинственное животное, украшающее его фамильный герб. А может быть, выйдет высокий друид с белой, как снег, бородой и предскажет его судьбу…
Однако его судьбу предсказал не друид. Это произошло зимой 1788 года, когда Вик пришел на заседание Французской академии. Там давал ужин герцог де Нервей; говорят, что человеком он был умным, весьма начитанным и образованным, по крайней мере настолько, чтобы оказывать всяческую материальную помощь и поддержку Шодерло де Лакло, Бомарше и Шамфору.
Граф Вик д’Азир чувствовал себя в своей стихии. Он проходил мимо знатных дам, касаясь края их одежды как бы невзначай, и они не закрывались веерами, даря ему легкие и многообещающие улыбки. Вик знал, что он привлекателен, и ему это нравилось: мягкий овал лица, серые прозрачные глаза, темные густые брови и непослушные черные волосы, которые эти герцогини так любят гладить среди густых ночных кустов жасмина, когда все вокруг напоено ароматом цветов, пением соловьев и бессмысленным, но всепоглощающим счастьем. Наверное, так же счастливы бабочки, великое множество которых легко порхает в фамильном имении Вика.
Придворные, академики, известнейшие ученые и вольнодумцы уже собрались за столом и успели как следует подкрепиться мальвазией. Обстановка становилась все более свободной, реплики звучали громче и откровеннее. Шамфор прочел одну из своих фривольных сказок, и дамы слушали его, не рдея, а открыто смеясь. «А помните, как написано у маркиза де Сада? – услышал Вик голос герцогини де Граммон. – Старый лекарь достал свой скальпель и, криво усмехнувшись, сказал проститутке Фаншон: „Я вовсе не нуждаюсь в твоих дырках, они мне все известны; я сделаю их сам, причем столько и в таком размере, как мне это покажется интересным“». Все окружающие залились веселым смехом. Вик улыбнулся, но почувствовал, как по его спине пробежал неприятный холодок. «Слушай, Вик, а ты, как мне кажется, не в восторге», – прозвучали рядом с ним слова, и граф обернулся. В то же мгновение его улыбка стала теплой и искренней.
«Брат!» – радостно сказал он. Рядом с ним стоял Гийом де Монвиль, обожаемый двоюродный брат, любимец всех придворных дам. Говорят, его жертвой стала даже принцесса де Ламбаль, известная своей суровостью к мужчинам. Но против Гийома устоять было невозможно, как невозможно было противиться солнцу. Его прозвали «ледяным ангелом» за удивительную красоту и солнечную улыбку, словно пробивающуюся сквозь лед. Вик обнял Гийома и взглянул в его смеющиеся зеленые глаза. «Ты-то что здесь делаешь, бедный мой мотылек?» – «Здесь слишком много красавиц, – отвечал Гийом, откидывая со лба непослушную черную прядь волос, – а сегодня вечером я совершенно свободен». – «Тебе нравится то, что пишет маркиз де Сад?» – удивился Вик. – «Мне смешно, и только», – сказал Гийом.
Пока они разговаривали, собравшиеся успели дружно поаплодировать стихам о том, что счастье в мире наступит после того, как «на кишках последнего аббата повесят короля». «Это уже чересчур, – подумал Вик. – Этого много, слишком много…». «Гийом, давай уйдем», – попросил он. «Ну погоди, – махнул рукой Гийом, – ну еще минутку, сейчас что-то начнется, я чувствую».
Старый академик, подняв бокал мальвазии, провозгласил тост за грядущее царство разума и справедливости. «Как жаль, что я не увижу его», – добавил он со вздохом. «Вовсе нет, – неожиданно спокойно прозвучали слова, – вы все, господа, увидите лицо этой революции, этой справедливости с завязанными глазами и поднятым мечом, этого монстра, который поглотит вас всех; всех, кто здесь присутствует». Кружок гостей раздвинулся, и в его центре оказался Казотт, человек милый и любезный, но, как говорили, состоявший в секте иллюминатов.
«Что вы хотите всем этим сказать, господин пророк?» – надменно промолвил маркиз Кондорсэ. «Ничего, маркиз, кроме того, что своих желаний следует немного побаиваться: они имеют свойство исполняться! Так и вы: увидите революцию, но погибнете, выпив яд в темнице, чтобы не погибнуть от рук грязного палача». – «У меня нет даже такой оригинальной манеры – носить с собой яд», – сказал Кондорсэ. «Нет, значит, появится, – отрезал Казотт, – в эти благодатные времена многие станут носить с собой яд, как носовой платок». – «Но какие тюрьмы и палачи могут существовать во время торжества всеобщего царства Разума?» – «А во времена Разума и Справедливости только такое и возможно, – усмехнулся Казотт, – все французские храмы будут посвящены этому самому Разуму, а когда каждого из вас Огненный Архангел станет судить по справедливости, то ни для кого не найдет оправдания. Ибо еще в Библии было сказано, что нет человека без греха. Он обвел глазами всех присутствующих и добавил: „Из вас только один Шамфор мог бы избежать участи погибнуть на эшафоте. Он стал бы одним из главных жрецов в этих проклятых храмах Разума и Справедливости, но предпочтет вскрыть себе вены бритвой. С непривычки у него, конечно, ничего не получится, но такова судьба. В конце концов всем нам суждено умереть, и это немного утешает. Вы же не рассчитывали, надеюсь, жить вечно?“.