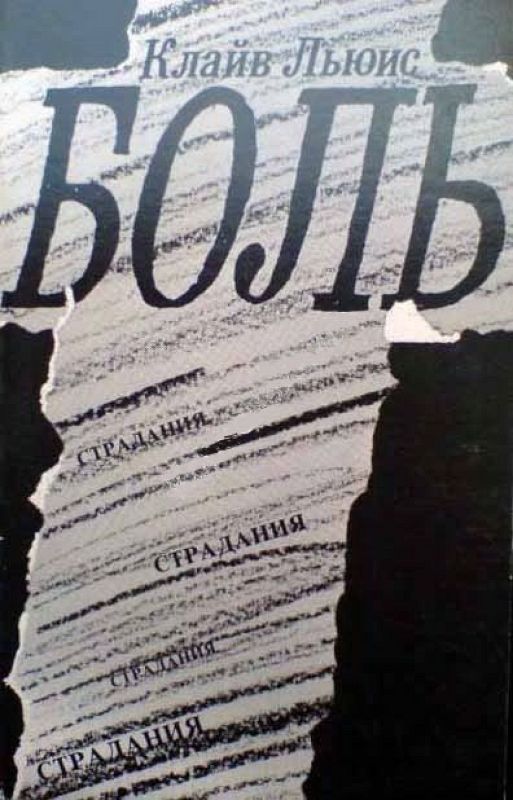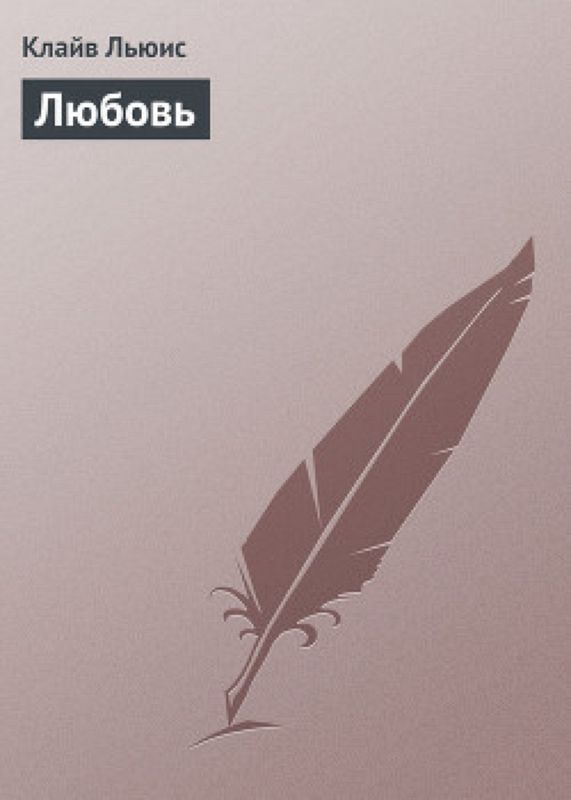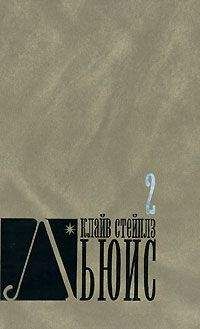то это отчасти потому, что наши родители начали процесс ломки и уничтожения нашей эгоистической воли еще с пеленок, а отчасти потому, что те же страсти принимают сейчас более тонкие формы и стали хитрее в методах избежания смерти путем различных «компенсаций». Отсюда следует необходимость ежедневного умирания, ибо как бы часто мы ни полагали, что сломили мятежное «я», мы вновь обнаружим его живым. О том, что этот процесс невозможен без боли, свидетельствует выражение «умерщвление плоти».
Но эта неизбежная боль, или даже смерть, в процессе укрощения узурпированного «я» – это еще далеко не все. Как ни парадоксально, укрощение или умерщвление плоти, хотя и представляющее само по себе боль, облегчается присутствием другой боли. На мой взгляд, это происходит трояким образом.
Человеческий дух не сделает даже попытки уступить свою самостоятельную волю, пока с ним все в видимом порядке. Дело в том, что заблуждение и грех характерны тем, что чем глубже, тем менее их жертва подозревает о их существовании – их зло замаскировано. Боль – зло незамаскированное, узнаваемое безошибочно. Каждый человек знает, что когда он чувствует боль, что-то не в порядке. Мазохист не представляет собой в этом отношении настоящего исключения. Садизм и мазохизм изолируют, а затем преувеличивают некоторый «момент» или «аспект» нормальных половых отношений. Садизм [15] преувеличивает аспект пленения и господства до такой степени, что извращенца удовлетворяет лишь дурное обращение с объектом любви – как если бы он говорил: «Я имею над собой такую власть, что даже мучаю тебя». Мазохизм преувеличивает противоположно-дополнительный аспект и провозглашает: «Я настолько очарован, что приветствую даже боль от твоих рук». Если бы боль не ощущалась как зло – как поругание, подчеркивающее полное господство партнера – она перестала бы быть для мазохиста эротическим стимулом. И боль ведь не только немедленно опознаваемое зло, но и зло, которое невозможно игнорировать. Мы можем удовлетворенно погрязать в наших грехах и наших глупостях – и каждый, кто видел, как обжоры пихают в себя самую изысканную пищу, словно не отдавая себе отчета в том, что они едят, признает, что мы можем игнорировать даже удовольствие. Но боль настаивает на том, чтобы на нее обращали внимание. Бог шепчет нам посреди наших удовольствий, вслух говорит с нашей совестью, но Он кричит в нашей боли – это Его мегафон, чтобы слышал оглохший мир. Дурной человек, когда он счастлив, – это человек, нимало не подозревающий, что его действия не «соответствуют», что они не созвучны законам вселенной.
Понимание этой истины лежит в основе всеобщего человеческого мнения, что плохие люди должны поплатиться. Бесполезно отмахиваться от этого мнения, словно оно есть невесть какая подлость. В своем самом мягком выражении оно апеллирует к имеющемуся у каждого чувству справедливости. Однажды, когда мы с братом, еще маленькими детьми, рисовали за одним столом, я толкнул его под локоть, так что он провел ни к чему не подходящую линию через середину своего рисунка. Мы дружески утрясли это дело, позволив ему провести линию такой же длины через мой рисунок. Таким образом я был поставлен на его место, заставлен взглянуть на свою неосторожность его глазами. В моем более жестком выражении та же самая идея принимает характер «карающего воздаяния», наказания по заслугам. Некоторые просвещенные люди хотели бы изгнать любое понятие воздаяния или заслуженной кары из своей теории наказания, и сделать упор исключительно на предотвращении других преступлений и перевоспитании преступника. Они не понимают, что таким образом они делают любое наказание несправедливым. Что может быть безнравственнее, чем причинить мне страдание ради предотвращения моих будущих проступков, если я этого не заслуживаю? А если я этого заслуживаю, то вы допускаете справедливость «воздаяния». А что может быть бесчеловечнее, чем схватить меня и подвергнуть неприятному процессу нравственного возвышения без моего согласия, если и только, опять же, я этого не заслуживаю? В еще более жестком выражении мы имеем дело с такой страстью, как жажда мщения. Это, конечно же, зло, запрещенное христианам. Но мы уже, кажется, выяснили в ходе обсуждения садизма и мазохизма, что самые мерзкие стороны человеческой природы – это извращения добрых и невинных сторон. То доброе, извращением чего является страсть к возмездию, с разительной ясностью предстает в данном Гоббсом определении мстительности, «желания, причинив боль другому, принудить его осудить некоторый его поступок». [16] Месть теряет из виду цель своих средств, но цель эта не вовсе плоха – она состоит в том, чтобы зло дурного человека явилось ему тем же, чем оно является для всех прочих. Это доказывается тем фактом, что мстящий желает, чтобы виновный не просто пострадал, а пострадал бы от его руки, и чтобы он знал об этом, и знал, почему. Отсюда побуждение напомнить виновному о его преступлении в момент исполнения мести, отсюда также такие естественные выражения, как «интересно, как бы ему понравилось, если бы с ним поступили так же» или «я его проучу». По той же причине, собираясь дать человеку словесную выволочку, мы говорим, что хотим «дать ему знать, что мы о нем думаем».
Когда наши предки упоминали о страданиях и скорбях, как о Божьем «возмездии» за грех, они не обязательно приписывали Богу дурные страсти – возможно, они лишь признавали добрый элемент в идее воздаяния. До тех пор, пока дурной человек не обнаружит несомненное присутствие зла в своем существовании, в форме боли, он погружен в иллюзии. Как только боль откроет ему глаза, он будет знать, что он каким-то образом противостоит реальной вселенной,- он либо взбунтуется (с возможностью более ясного прозрения и более глубокого раскаяния в будущем), либо попытается исправить положение, что, в конечном счете, может привести его к религии. Правда, ни тот, ни другой результат не является сейчас с той неизбежностью, с какой он являлся в эпохи, когда существование Бога (или даже Богов) было шире известно, но даже в наши дни мы видим эти результаты. Даже атеисты бунтуют и выражают, подобно Харди и Хаусману, свою ярость по отношению к Богу, хотя (или потому что) Он, на их взгляд, не существует. А другие атеисты, подобно Хаксли, вынуждены под давлением страдания обращаться ко всей проблеме существования искать какой-то способ ее решения – пусть не христианский, но все же стоящий почти бесконечно выше идиотского довольствования мирской жизнью. Нет сомнения в том, что боль в качестве Божьего мегафона – ужасный инструмент, который может привести к окончательному не ведающему раскаяния бунту. Но она дает дурному человеку единственную существенную возможность исправления. Она снимает завесу, она водружает знамя истины в