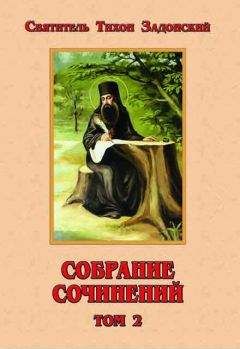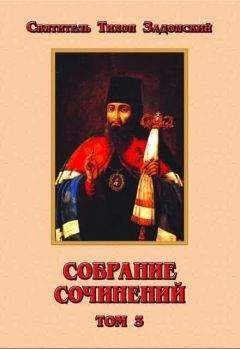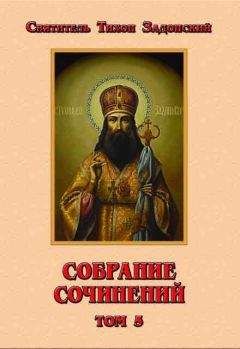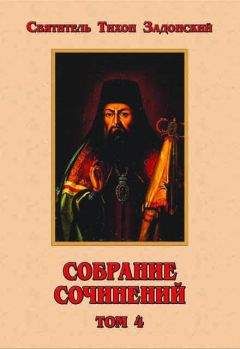Любовь к жителям этого города была так велика, что составляла немалую причину нерешимости Тихона оставить Задонск. «Я бы непременно выехал отсюда, – часто говаривал он после, – но жалко мне город Елец оставить; я весьма люблю елецких жителей; я замечаю, что в нем много благочестно живущих людей», – и иногда прибавлял к этому: «Будто я родился в нем». [85] Обыкновенно он останавливался или у Ростовцевых, или у Косьмы Игнатьевича, – с которыми проводил ночи в собеседовании. Радуясь, что к нему стекаются городские жители и ищут от него душеспасительных наставлений, – он много разговаривал с ними. Они же, в знак своего усердия к нему, приносили ему рыбу, хлеб и прочее. Святитель принимал принесенное, но все отсылал в острог, дозволив разве келейнику взять себе калачей на дорогу. Утешив себя таким образом, Тихон в сопровождении жителей, провожавших его за реку Сосну, уезжал из города, преподавая им благословение. Отъехав версты три от города, он останавливался, чтобы еще посмотреть на город и поклониться его церквам. «Когда построен этот город?» – спрашивал он. «Это (словно) Сион»! Вероятно, с той же целью и по тем же побуждениям, Тихон два раза ездил в Воронеж для посещения своего друга Тихона III.
Впрочем, во время тоски Святителю не всегда можно был пользоваться этим средством, т.е. выездами из монастыря к своим друзьям. Иногда он бывал недоволен этими выездами. Случалось, что друзья вовлекали его в непристойные разговоры, оскорбляли нескромными беседами и пересудами ближних, или грубым упорством в ложных взглядах и суждениях, о чем мы имели случай сказать выше. После таких посещений он возвращался не таким, каким выезжал, в чем и признавался перед своими келейными. Вследствие этого случалось, что когда друзья присылали за ним лошадей, он долго, иногда целые сутки, бывал в нерешимости – ехать или нет, и нередко отсылал назад присланных лошадей. «Пустыня и уединение собирают добро, – обыкновенно говаривал он в подобных случаях, – а отлучка от оных и соблазны мира расточают».
Отказывая себе в выездах из монастыря, Тихон в самом монастыре нашел себе друзей и нередко прибегал к их духовной помощи. Таковыми были: простой старец Феофан и схимонах Митрофан, – в иных случаях приглашал к себе в монастырь своих елецких друзей.
Не случалось ли вам самим испытать, или слышать от других, как ребяческий лепет незлобливого и доверчивого младенца рассеивал самые густые и мрачные облака родительской грусти, облегчал стесненную скорбью грудь отца, и заставлял его смело и бодро идти на труды, неприятности, и опасности жизни. Трудно, и едва ли возможно постичь эту тайну человеческого сердца, только несомненно, что это бывает, и многие испытывают на самих себе. Так было и с Тихоном.
Для него этим незлобивым младенцем был старец Феофан, из крестьян, неграмотей и простец душой. Когда Тихон впадал в унылое расположение духа, этот старец занимал его своими простыми разговорами (развлекал и успокаивал), обходясь с ним попросту как с таким же поселянином, как он сам, и называя его бачкой. Часто своей простой беседой, своими немудрыми разговорами он, по простоте своей, перебивал мудрую речь самого Тихона, и преосвященный уступал ему, ожидая в его речи услышать утешение и назидание. И действительно, безоблачная ли ясность души Феофана освещала мрак грусти Тихона, – детский ли нехитростный взгляд на жизнь первого разрешал затруднения, мысли и думы последнего, – неподдельность ли нрава и детская наивность сообщались и его душе, – как бы то ни было, только от бесед Феофана Тихон чувствовал в себе перемену. Мрачное распололжение духа проходило, и он становился спокойнее. Вследствие этого Феофан сделался для него необходим, и Святитель так приблизил его к себе и так любил его, что редко обедывал без него. «Феофан моя утеха, – говаривал он о старце, – я им весьма доволен, за то я и хвалю его: первое за простосердечие, второе за то, что он никогда не бывает в праздности, но всегда упражняется в благословенных трудах». «Подлинно, и старец, по своей жизни, достоин был похвалы», [86] – замечает келейник Тихона. С ним же почти ежедневно говаривал преосвященный такими словами: «Феофан! пора, пора в отечество: мне уже истинно наскучила жизнь эта; я рад бы хоть и теперь умереть, только бы не лишиться вечного блаженства». И затем прибавит: «О бедные и окаянные мы! Теперь избранники Божии радуются и веселятся, а мы, странники и пришельцы, в маловременной сей жизни бедствуем и волнуемся. Туда, Феофан, нам надобно всегда мысленно стремиться, чтобы не лишиться с ними участия? Пусть мир мирское любит, а мы непременно всегда будем стараться горняя достигать. Так-то Феофанушка!» [87]
Как утешался святитель Тихон беседами с Митрофаном и одним из елецких друзей, показывает следующий случай.
Однажды, а именно на 6-й неделе великого поста, на святителя Тихона напало такое уныние и в такой степени, что восемь дней он не выходил из келии, почти ничего не пил и не ел, никого не принимал к себе, даже и утеху своего Феофана. В таком положении он послал письмо к Косьме Игнатьевичу в Елец, прося его непременно приехать в Задонск.
Косьма Игнатьевич, в твердом уповании на то, что Господь благословляет всякое дело любви, несмотря на половодье и распутицу, тотчас же отправился в путь. Не без опасности для жизни, среди льдин, переехал он Дон и явился к унывающему другу. Тихон, увидев его, вздрогнул от представления тех опасностей, каким подвергался его приезжий гость, и был весьма рад его посещению. Он велел подать самовар и потом раскрыл перед ним свое тяжелое душевное положение, доводившее его до отчаяния. Косьма сказал ему все, что мог сказать в утешение, ободрение и укрепление, и что знал по опыту своей духовной жизни. Но не столько опытные советы, сколько вообще сама беседа с другом, да и сам приезд Косьмы – так утешили Тихона, что скорбь его прошла, и он сделался весел, просидел с ним за полночь и на другой день, вместе со схимонахом Митрофаном, у которого обыкновенно останавливался Косьма, – просил его обедать к себе. Когда они шли обедать, знакомый рыбак принес Митрофану живого верезуба для вербного воскресенья. Митрофан отослал его к келейнику, но дорогой, остановя Косьму, сказал ему: «Знаешь ли ты, какая пришла мне мысль? Вербное воскресенье будет, а Косьмы у меня не будет, станешь ли ты есть верезуба?» – Косьма отвечал: «С охотой». Митрофан воротился домой, велел келейнику из принесенной рыбы приготовить уху и холодное и опять пошел к Тихону. Обед у Тихона был самый простой и без масла, так как была пятница. Гости, утешенные ласковым приемом Тихона, его спокойным и веселым расположением духа, простившись с ним после обеда, воротились в келию Митрофана и сели за уху и холодное, послав тем временем келейника за водой для чая. В это время отворяется дверь и сверх всякого ожидания является Святитель. Митрофан смутился и упал перед Святителем на колени, говоря что он соблазнил Косьму. Но Тихон, зная строгую жизнь обоих, сказал: «Садитесь, я знаю вас: любовь выше поста». Сев около них, он велел и себе положить ухи, и, несмотря на то, что весь великий пост даже не вкушал масла в понедельник, среду и пятницу, съел ложки две ухи и потчивал Косьму.
Эта доброта и мудрое благоразумие Святителя еще более поразили Косьму, и без того глубоко почитавшего Тихона за его святую жизнь. Припомнив по этому обстоятельству хранившееся в монастыре предание, что это место будет прославлено одним угодником Божиим, и в святителе Тихоне мысленно признавая исполнение сего предания, Косьма вслух говорил, обливаясь слезами: «Так, ваше преосвященство, так!» Когда Святитель стал просить объяснения этих слов, Косьма пред образом Спасителя рассказал, как бывший архимандрит Варсонофий обмирал и в это время слышал глас, что здешнее место будет прославлено одним Божиим угодником. Услышав это и получив быть может некое благодатное уверение в этом, Тихон заплакал и удалился в свою келию, а потом, призвав к себе Косьму, просил его вновь рассказать видение. Выслушав снова тот же рассказ, Святитель сказал: «Хотя и не принимаю этого на свой счет, но прошу не рассказывать об этом, пока я жив». [88] Вот какое утешение обретал скорбящий Тихон в общении со своими близкими друзьями!
Состояние безотчетной скорби, столь обычное святителю Тихону вследствие его болезненности, само по себе не было бы опасным, если бы в это время не нападали на него помыслы отчаяния, этого смертного греха против Святого Духа. Эти губительные помыслы, как обыкновенно бывает, [89] представляли Тихону невозможность спасения для него, останавливали его внимание на грехах, увеличивали их тяжесть, и в то же время клеветали на Бога, будто Он строг, требователен и карает всякий грех, всякое преступление, – заставляли сравнивать его жизнь и подвиги с жизнью и подвигами великих святых, например: апостолов, пророков и мучеников, не находили ничего общего между теми и другими и смущали ослабленную душу той мыслью, что он недостоин приобщиться к лику таких великих угодников в царствии небесном. Такие помыслы приводили Тихона в страх и ужас. «Слышу я, – писал Святитель одному другу, обуреваемому помыслами отчаяния, – слышу я, что тебя смущают помыслы и порываются в отчаяние... Я и сам в себе тоже чувствовал и ныне часто чувствую, отчего бывает страх и ужас и тоска (и на других тоже примечаю, – почему не с тобой одним случается это); но спасения о Христе не отчаиваюсь».