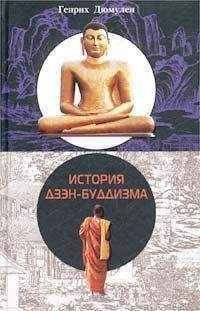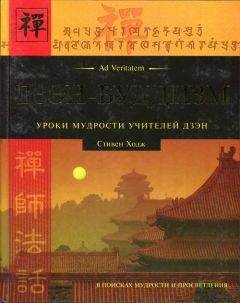Следует признать, что существует принципиальная разница между индийским и китайским 'образом мышления. Так, не приходится говорить о полной идентичности концептуального восприятия. Вселенская всеобщность воспринимается китайцами в контексте гармонии с природой, в то время как индийцы стремятся уйти от всего мирского. Однако коль скоро буддисты относятся к разнообразным интерпретациям их учения весьма терпимо, этим различиям можно не придавать большого значения. Тем не менее теоретический конфликт имел место, если верить невероятной, но поучительной истории о том, как Лао-цзы, «разочарованный непониманием своих соплеменников, отправился проповедовать буддизм в Индию». Поразительное сходство между двумя основополагающими доктринами даосизма и буддизма состоит в естественном познании мира и жизни, которое провозглашается как в сутрах Махаяны, так и в трудах великих китайских мыслителей Лао-цзы и Чжуан-цзы. Зародившийся в Махаяне росток натурализма пышным цветом расцвел в благодатном климате китайской духовности и принес более ощутимые плоды, чем на своей родине — в Индии. В то время как индусы были ограничены рамками поиска пути к спасению, китайцы стремились к постижению законов природы и с энтузиазмом восприняли даосско-буддийский натурализм.
Буддийские методы медитации также не стали для китайцев чем-то новым. В китайской классической литературе можно прочесть о сверхчеловеческой мудрости, экстатических состояниях и чудесных силах. Даосизм учил своим способам медитации и предлагал систему дыхательных упражнений как средство духовного сосредоточения и долголетия. Среди ранних переводов буддийских сутр можно обнаружить тексты, посвященные буддийской медитации, и описания различных этапов сосредоточения на пути к обретению освобождающего знания.
Сегодня мы не можем судить о том, насколько точно древние китайцы следовали буддийским наставлениям. Но несомненно одно — вместе с культовыми и теоретическими установками китайцы научились буддийской медитации. Санскритское слово «дхьяна» транслитерировали как «чань» (арх. - «дянь»), которое в японском стало произноситься как «дзэн». Буквально термин трактовался как культовая отстраненность или избавление. Таким образом, медитация, которой учил хинаянский канон, стала называться «дзэн Малой Колесницы», а способ, который проповедовал канон Махаяны, — «дзэн Большой Колесницы». Изначально применялись одни и те же методы, но в зависимости от сущности созерцания они подразделялись на хинаянские и махаянские. Таким образом, напрашивается вывод: метафизическое содержание обуславливает мистический опыт и придает ему конкретный характер.
Двумя ранними формами махаянской медитации в Китае являлись созерцание Амитабхи и сосредоточение трансцендентальной мудрости (праджняпарамита-самад-хи). На китайской почве глубоко укоренился культ Будды Амитабхи (яп. — Амида). Дао-ань (312–385), как истинный китаец, принял буддийское учение всем сердцем и привнес в него элементы китайского мировоззрения. Самозабвенно изучая сутры «Праджняпарамиты», он одновременно уделял много времени медитативной практике. Этого монаха заслуженно считают первым китайским последователем Большой Колесницы. Его ученик Хуай-юань (334–416), несмотря на монашеский обет, оставался светским человеком и пропагандировал буддизм в кругах китайских интеллектуалов. Он известен как основатель секты Чистой земли и первый китайский монах — организатор буддийской общины. Благодаря его усилиям на горе Лу, расположенной на берегу Янцзы, был основан буддийский центр. В этом сообществе усердно практиковали медитацию с тем, чтобы достичь экстатического состояния сознания, в котором созерцался образ Амиды и его «чистых земель», сопоставимых с христианскими «райскими кущами». Кроме того, медитируя, Хуай-юань стремился достичь единения с Абсолютом или с Источником всего сущего (Природой, Мировой Душой или Буддой). «Медитация без внутреннего видения не позволяет обрести успокоения. Внутреннее видение без медитации не отражает всей глубины [мистического опыта]». В медитативной практике Дао-юаня даосские элементы сочетаются с буддийскими. Даосы измеряют глубину реальности «первозданным небытием», которое постигается за счет праджни, проникающей в пустоту всех вещей. Многие китайские мистики, подобно Хуай-юаню, повторяли имя Будды (яп. — нёмбуцу) на всех этапах духовного возвышения, не чувствуя противоречия между мистическим погружением в абсолютную Пустоту и блаженством созерцания Будды Амиды.
Кумараджива и Буддхабхадра
Центральной фигурой в раннекитайском буддизме принято считать Кумарадживу (умер в 413 г.), который обосновался в Чаньяни, где в течение десяти лет добился блестящих результатов. Он основал и возглавил ведомство переводов, где на китайский язык были переведены многие хинаянские и махаянские труды. Кумараджива был убежденным махаянистом, приверженцем Срединного Пути Нагарджуны. Его истовое служение и подвижничество помогло учению Большой Колесницы окончательно утвердиться в Китае. Не будучи силен в технике медитации, он тем не менее популяризировал ее среди многочисленных китайских учеников, многие из которых придерживались махаянских способов сосредоточения.
Признанным авторитетом в области буддийской медитации был другой великий индийский наставник — Буддхабхадра, который сильно отличался от Кумарадживы по своему характеру и наклонностям. Несмотря на то что этот монах был пятнадцатью годами моложе Кумарадживы, он превосходил его своими добродетелями и по праву заслужил уважение своих китайских последователей, не в последнюю очередь за счет обладания магическими навыками. Менее образованный, чем Кумараджива, он любил уединение, избегал светского общества и большую часть своего времени уделял медитации. По прибытии в Китай поселился с Кумарадживой в Чаньяни, но в результате враждебного к нему отношения со стороны монастырской братии был вынужден покинуть храм. В компании более чем сорока монахов он отправился искать пристанища на горе Лу, где его радушно встретил неизменно гостеприимный Хуай-юань.
В действительности Буддхабхадра придерживался золотой середины между Хинаяной и Махаяной, а по своему религиозному воспитанию был хинаянистом. Способ сосредоточения он позаимствовал из «Дхарматратадхья-на-сутры», в которой приводились наставления по хина-янской методике контроля над дыханием, по созерцанию нечистого, сосредоточению на Четырех Неизмеримых, Пяти Элементах (скандха), шести органах чувств (инд-рия) и двенадцатеричной цепи причинности. В период пребывания на горе Лу он перевел эту сутру на китайский и читал по ней лекции. Однако в сознании его учеников различия между учением Хинаяны и Махаяны были столь расплывчатыми, что в одном из писем, датируемом более поздним временем, его называют «наставником по медитации Махаяны». Переведенную на китайский язык сутру ошибочно стали считать махаян-ской. Впрочем, подобное заблуждение было весьма характерным для переходного периода.
С горы Лу Буддхабхадра направился в главный город Цзянь-кан, где продолжил свое подвижничество в качестве учителя, наставника по медитации и переводчика. В своем преданном служении китайскому буддизму он перевел многотомную «Буддхаватамсака-махавайпулья-сутру», которая стала каноническим текстом школы кэ-гон. Буддхабхадра умер в 429 году в городе Цзянь-кане. Его ученик Сюань-гао (умер в 444 г.) жестко противостоял новым идеям Дао-шэня относительно возможности внезапного просветления. Это новаторское движение возникло в кругу учеников Кумарадживы, но позднее сторонники чисто махаянской медитации встречались и среди последователей Буддхабхадры.
«Мудрость неведения»
На заре V века, то есть в период первого расцвета китайского буддизма, наиболее видным представителем учения был блестящий ученик Кумарадживы, безвременно ушедший из жизни, Сэн-чжао (383–414). Выходец из низов общества, он примкнул к школе прославленного наставника и ревностно следовал путем спасения, совершенствуясь в метафизических построениях доктрины Срединного Пути. Он сумел сочетать учение Большой Колесницы с идеями Чжуан-цзы, Лао-цзы и неодаосов, с которыми был знаком с раннего детства. В силу своих мистических наклонностей он искал высшую истину в занятиях медитацией: «Истина постигается не словесно, а посредством того, что находится между строк. Ей нельзя научиться, ее следует испытать. Она раскрывается в моменты «экстатического приятия» жизни ‹…›».
В возрасте двадцати трех лет этот вдумчивый молодой человек достиг уровня зрелого философа-мистика. Его трактат «Мудрость неведения» раскрывает самую суть парадоксальности метафизики Нагарджуны. По мнению автора, праджня — это «озаряющая сила неведения», выявляющая истинную реальность: «Поэтому мудрец подобен пустому пространству. Он безразличен к знанию. Он живет в изменчивом мире потребления, но при этом придерживается принципов бездеятельности (у-вэй). Он обитает в окружении стен, и все же живет в открытом пространстве неизреченного. Он молчалив и одинок, бессодержателен и открыт. Состояние его бытия нельзя облечь в слова. Более о нем сказать нечего».