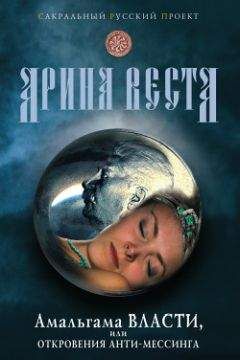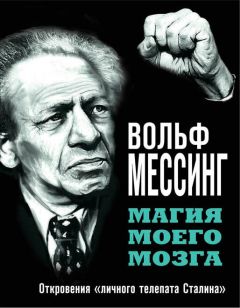А на Ильин день объявился Горя в Елани, так же внезапно, как исчез. Вышел из тайги облешалый, бородатый, а на шее под бородой – глубокий шрам. С того дня был Горя словно малость не в себе, на людях не снимал с шеи черного шелкового платка, и веяло от него мертвым духом.
Не в пример ополоумевшей дочери, бабка Агафья сохраняла ясный деловой разум. Ее синий сарафан и белая расшитая кофта: будничное одеяние пожилой староверки – в сумерках избы выглядели почти царским нарядом. Ради важной минуты она набросила на голову белый плат вроспуск, заколола его под подбородком нарядной булавкой с «камушком», взяла заготовленную к ужину ковригу и шитый рушник, зачерпнула солонкой свежей соли и приготовилась встречать сватов.
Заполошный колокольчик смолк, хлопнула дверь в сенях, и, не спрашивая разрешения, не узнав, дома ли сам, вошла в горницу молчаливая ватага и встала гуртом, заполонив враз всю горницу. От промерзших армяков и снятых шапок повалил крепкий овчинный дух. От холода проснулся старший Курганов и, продрав глаза, уставился на гостей.
Для сватов считалось удачей, если застанут родителей невесты на печи. Веденея под ногами у гостей выгнала кошку, вынесла в сени решето с мяукающими котятами и встала избоченясь, грозно сдвинув густые брови: мол, ворвалось чужое племя, зачем пожаловали – нам неведомо! Впору и за ухваты!
Дружка, стукнув каблуками об порог и незнамо к кому обращаясь, сказал:
– Как порог молчит, лежит, так чтобы и вы против нас молчали-лежали.
– Колотим о порог, чтоб не говорили поперек, – поддержал его рыжий парень по прозвищу Вяхирь.
– Да вы кто такие? – спохватился хозяин. – Откель понабежали?
– У вас товар, у нас купец! – наконец-то признался вожак.
Стеша чуть отодвинула занавеску, боязливо озирая сватов. Последним вошел рослый бородач в распахнутой дохе. Не заломив шапки в красный угол, встал первым, и словно померкла в его тени молодая дружина. По случаю праздника надел главный сват черные плисовые шаровары с напуском, на ногах поскрипывали городские сапоги гармошкой с наваксенными носами. Темная, с густой проседью борода лежала на груди привольными серебристыми кольцами. Красив был старший Ворава: сухое лицо, загорелое на горном солнце, даже зимой отливало бронзой, а в озерной глубине глаз, на самом дне, как серебристая чудо-рыба, мерцала невысказанная печаль.
Спешил будущий свекор, оттого и сам поехал, советчиков да дружек выбирать было некогда.
Старший Курганов по-медвежьи, спиной, слез с печи, как был без портов, в длинной рубахе-распояске.
– Ну так садитесь, люди добрые, – скрывая оторопь, пригласил он гостей к стылому самовару.
Агафья проворно выставила на стол чистую посуду и расписные чашки, какие ставили для своих, единоверцев.
– Наш Егорий приказал не садиться, а узнать, нельзя ли породниться, – степенно произнес Северьян. – Да посмотреть-прицениться – по купцу ли товар?
– Жених просил челом бить вашей милости – нельзя ли на невесту поглядеть?
– Здоров ли Григорий Северьянович? Отчего сам не пришел? – строго спросил Антип.
Умолкли сваты, смотрят на Северьяна, ждут его слова, а он словно заснул с открытыми глазами, опершись могучими руками о стол.
– Говорят, она у вас краля! Другой такой не найти! – снова наперебой заговорили дружки.
– Это Стешка-то? Да какая она невеста, ей бы еще в бирюльки играть, у нее и приданого-то нету, выйтить к вам и то не в чем… – зыркнув за занавеску, с деланым вздохом сказала Агафья.
– Нам нужен человек, а не платье, ведь жить не с приданым, а с богоданным, – гнули свое сваты.
– Ну так приходите еще… Важные дела скоро не делаются, – заключил старший Курганов.
– А у нас ждать не принято, коли согласны, так сразу скажите, чего и коней гонять.
– Пусть девка сама скажет… – загудели сваты. – А то, может, она у вас немая… Да свету побольше дайте, нам на нее посмотреть охота! Жирники у вас есть?
Агафья вынесла городские свечи и расставила в плошках – наступал самый ответственный момент смотрин.
Глянула Стеша тайком в маленькое настенное зеркальце, грешную бабью усладу, – вроде жаловаться не на что: тонкий нос с легкой кургановской горбинкой и глаза темно-синие, точно енисейская вода после ледохода, губы алые, прозрачные, и весь девичий лик – словно зорька туманная, едва зардевшаяся у края облаков. Юное статное тело еще только копило силы, и обещала Стеша выровняться в редкую красавицу.
Тетка Веденея оправила на племяшке кургузую кофтенку, перебросила тугую косу на правое плечо и вытолкнула из-за занавески, перекрестив вдогонку.
Совсем обмерла Стеша, глядя в омутные зрачки седого великана, а тот вдруг усмехнулся в бороду и дрогнул крепким, точно рубленым лицом.
– Хороша ли девка? – спросил довольный Антип и не удержался – шлепнул дочку пониже спины.
– Хороша! – глухо ответил Северьян, растирая правой ладонью грудь под лохматой дохой.
Чтобы унять волнение, Стеша выскочила на ледяное крыльцо, глубоко вдохнула колючий от мороза воздух и прошептала на растущую луну:
– Месяц молодой, рог золотой, дай мне красы твоей несказанной в светлый день и в темную полночь! – И бросилась обратно в жаркую избу, но в сумрачных сенях почти ударилась о Северьяна.
Смотрел на нее великан с ласковой грустью, в бороде запутался свет месяца, а в руках хрустела смятая шапка, точно он на исповедь к батюшке пришел.
– Не откажи, лебедушка, – прошелестело во тьме. – Выйди за Григория. В тебе все мое спасение…
Испугалась Стеша глубокого голоса и мольбы в глазах. Незнакомая прежде бабья жалость талым воском растеклась по телу.
В степенном молчании сваты попили чай, и Антип снова позвал Стешу.
– Так пойдешь ли за Григория? Говори! – подбодрила девицу Агафья.
Захолонуло Стешино сердчишко, как заяц в силках.
Смолчала она, но заговорили румяные девичьи губы, ресницы блескучие и густые, как хвоя на солнце, и руки, что комкали ленточку в косе.
– Ополоумела девка от радости, – с деланым вздохом сказал Антип. – Передайте жениху, пусть знакомиться приезжает.
Следом за ушедшими сватами нагрянули скорые зимние сумерки. Ближе к ночи вернулся Ерофей и вместо известий о лошадях выложил у печи охапку дров. В метели замерла почтовая ворга, а значит, жить беглому в голбце, пока не стихнет снежная круговерть.
– А что он, Северьян? – робко допытывалась Стеша у бабки и тетки Веденеи.
– Что и говорить, Воравы – род богатущий, – рассказывала Агафья. – Кони самородным серебром подкованы, и хоромы у них в двунадесять венцов, и крыша пихтовым лемехом крыта…
– Каков строитель – такова и обитель, варнак он, ваш Северьян, – язвила Веденея. – А что кони у них справные, так ведь не за коня девку-то отдавать.
– А хошь и за коня, был бы краше меня, – пробурчал Антип. – Сама-то добрыкалась перед женихами, осталась вековухой, и Стешку туда же учишь?
– Да вы жениха-то видели? Верно бабы судачили: ему тамово житье, где кабацкое питье… Как из леса вышел, в муртинском кабаке первее его нету, – острила жало Веденея.
– Цыть, ведьмин цвет, рот на барщину отправь, не смущай девку, – прикрикнул старший Курганов. – Не до свадеб сейчас, в округе все женихи наперечет. С германцем-то уж, поди, третий год бьются, почитай, уже сколько народу побило, а новых где брать? Только у нас, в Сибири!
– Сибирь – матка, она ж и солдатка, – поддакнула Агафья.
– Верно говоришь, мать! – Из голбца, потягиваясь, вылез беглый. – Газеты читаете, громодяне? Слыхали, что царь первоначальный закон отменил?
Антип насупленно кивнул: прежний закон был не в пример добрее нового. Прежде единственного кормильца призывного возраста, отца или сына, на войну не брали. Теперь вышел новый извод: последний пахарь, последняя материна надежа, под ружье загремит, а семья с голоду помрет.
– Отказаться надо народу от войны! Бунтовать! Стрелять офицеров! Крестьянам – прятать фураж! Рабочим – останавливать заводы! – горячился беглый, пробираясь поближе к теплому самовару, но Агафья осадила его:
– Вот что, гость разлюбезный, что-то ты больно разбарнаулился. Накликаешь беду на наши головы. Надо тебе уходить, свадьба у нас скоро, сваты, то да се… Исправник на кисель обязательно заглянет…
– Нельзя мне сейчас уходить! – ссыльный гулко закашлял в отворот плешивой бурки, точно филин в лесу загукал. – Будьте милосердны… подержите еще недельку… – Он приложил правую руку к сердцу, жалостливо заглядывая в Стешины глаза.
– Не гони его, бабушка, – тихо попросила Стеша, – пропадет ведь! Вон шкура-то худа да махриста…
– Шкура овечья, была бы душа человечья, – заметил Антип. – Как звать-то тебя, болезный?
– Осип по-вашему.
– Ну живи, Осип, вижу я, что ты человек неплохой, – заключил Антип.
– Ерофеюшка, ливни ему кипяточку, – смилостивилась Агафья.