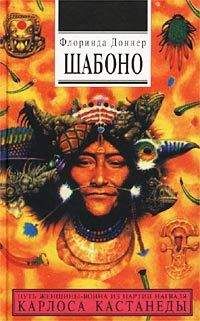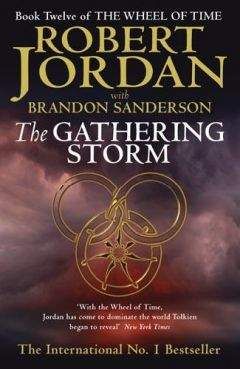Зевнув, он раскрыл зияющий провалами рот, в котором, как сталагмиты, торчали пожелтевшие зубы. Смех и разговоры смолкли, когда он стал нараспев произносить заклинания голосом, который, казалось, принадлежал к иному месту и времени. У него было два голоса: один, гортанный, был высокий и гневный; другой, идущий из живота, был низкий и успокаивающий.
Долго еще после того, как все разошлись по гамакам и угасли костры, Пуривариве, согнувшись в три погибели, сидел у небольшого огня посреди поляны. Он пел тихим приглушенным голосом.
Я выбралась из гамака и присела рядом с ним на корточки, стараясь коснуться ягодицами земли. По мнению Итикотери, это был единственный способ, полностью расслабившись, часами сидеть на корточках. Давая понять, что заметил мое присутствие, Пуривариве коротко взглянул на меня и снова уставился в пустоту, словно я прервала ход его размышлений.
Больше он не шевелился, и у меня возникло странное ощущение, что он уснул. Но тут он чуть передвинул по земле ягодицы, не расслабляя ног, и потихоньку снова еле слышно запел. Ни одного слова я понять не могла.
Начался дождь, и я вернулась в свой гамак. Капли мягко шлепались на пальмовую крышу, порождая странный завораживающий ритм. Когда я снова обратила взгляд к центру поляны, старик уже исчез. И только с поднимающейся над лесом зарей я провалилась в бесконечность сна.
Красный закат пронизывал воздух багряным свечением. Несколько минут небо пылало перед тем, как быстро погрузиться в темноту. Шел третий день праздника.
Сидя в гамаке с детьми Этевы и Арасуве, я наблюдала, как около полусотни мужчин Итикотери и их гостей с самого полудня без еды и отдыха пляшут в центре поляны. В ритме собственных пронзительных криков, под трескучее постукивание луков о стрелы, они поворачивались то в одну сторону, то в другую, ступая вперед и назад. Над всем властвовал глухой назойливый ритм звуков и движений, колыхание перьев и тел, смешение алых и черных узоров.
Над деревьями взошла полная луна, ярко высветив поляну. На мгновение непрерывный гул и движение стихли. Затем плясуны разразились дикими гортанными криками, наполнив воздух оглушительным ревом, и отшвырнули прочь луки и стрелы.
Забежав в хижины, танцоры выхватили из очагов горящие головни и с бешеной яростью принялись лупить ими по столбам, поддерживающим крышу шабоно. Полчища всевозможных ползучих насекомых со всех ног бросились спасаться в пальмовой крыше, а оттуда дождем посыпались вниз.
Испугавшись, что хижины могут рухнуть либо разлетающиеся искры подожгут крыши, я с детьми выбежала наружу. Земля дрожала от топота ног мужчин, разворотивших очаги во всех хижинах. Размахивая над головой горящими головнями, они выбежали в центр поляны и возобновили пляску со все нарастающим неистовством. Они обошли поляну по кругу, болтая головами во все стороны, словно марионетки с оборванными ниточками. Пышные белые перья в их волосах, трепеща, ниспадали на блестящие от пота плечи.
Луна скрылась за черной тучей. Поляну освещали теперь только искры, слетающие с горящих головней.
Пронзительные крики мужчин взвились еще выше; размахивая палицами над головой, они стали приглашать женщин принять участие в пляске.
С криками и смехом женщины бросились врассыпную, ловко уворачиваясь от свистящих в воздухе дубинок.
Неистовство плясунов неумолимо нарастало и достигло наивысшей точки, когда юные девушки с гроздьями желтых бананов в высоко поднятых руках влились в их круг, покачиваясь в чувственном самозабвении.
Не помню точно, Ритими или кто другой втащил меня в пляшущую толпу, потому что в следующее мгновение я очутилась одна посреди бешеного круговорота исступленных лиц. Зажатая между мраком и телами, я попыталась пробраться к Хайяме, стоявшей на безопасном расстоянии в своей хижине, но не знала, куда мне идти. Я не узнала мужчину, который, размахивая палицей, снова втолкнул меня в гущу пляски.
Я закричала и с ужасом поняла, что мои крики словно онемели, выдохлись внутри меня бесчисленными отголосками. Ничком падая на землю, я почувствовала резкую боль в голове за ухом. Я открыла глаза, стараясь что-нибудь увидеть сквозь густеющий вокруг меня мрак, и только успела подумать, заметил ли хоть кто-то в неистовой круговерти скачущих ног, что я упала. А потом была темнота, помеченная искорками света, влетающими и вылетающими у меня из головы, словно ночные светляки.
Потом я смутно осознала, что кто-то оттаскивает меня подальше от топота пляски и укладывает в гамак. Я с огромным усилием открыла глаза, но склонившаяся надо мной фигура была как в тумане. На лице и затылке я ощутила легкое прикосновение чуть дрожащих рук. На мгновение мне показалось, что это Анхелика. Но услышав этот ни на что не похожий голос, идущий из глубины живота, я поняла, что это старый шаман Пуривариве распевает свои заклинания. Я попыталась сосредоточить на нем взгляд, но его лицо оставалось размытым, словно видимое сквозь толстый слой воды. Я хотела спросить его, где он был, почему я не видела его с первого дня праздника, но слова оставались лишь образами у меня в голове.
Не знаю, то ли я потеряла сознание, то ли спала, но когда я очнулась, Пуривариве уже не было. Вместо него я увидела лицо Этевы, склоненное надо мной так низко, что я могла бы потрогать красные круги на его щеках, между бровями и в уголках глаз. Я протянула руки. Но рядом уже никого не было. Я снова прикрыла глаза; в голове, словно в черной пустоте, красной вуалью плясали круги. Я покрепче зажмурилась, пока это видение не рассыпалось на тысячи осколков. Огонь в очаге разожгли снова; он наполнил хижину уютным теплом, а меня словно спеленало плотное покрывало дыма. Вырванные из темноты пляшущие тени отражались в золотистом налете на свисающих со стропил калабашах.
Весело смеясь, в хижину вошла старая Хайяма и уселась возле меня на земляной пол. — Я думала, ты будешь спать до утра. — Подняв обе руки к моей голове, она стала ощупывать ее, пока не отыскала шишку, вздувшуюся за ухом. — Большая, — заметила она. Ее иссохшее лицо выражало сдержанную грусть; в глазах теплился тихий ласковый свет. Я села в лубяном гамаке. Только теперь до меня дошло, что я нахожусь не в хижине Этевы.
— Ирамамове, — сказала Хайяма, опередив мой вопрос. — Его хижина была ближе всех, вот Пуривариве и притащил тебя сюда после того, как тебя толкнули на чью-то дубинку.
Луна уже высоко забралась в небо. Ее бледный мерцающий свет сеялся на поляну. Пляски закончились, но в воздухе все еще висела неуловимая дрожь.
Крича и ударяя стрелами о луки, несколько мужчин встали полукругом перед хижиной. Ирамамове и один из его гостей шагнули в центр группы живо жестикулирующих мужчин. Я не могла сказать, из какой деревни был этот гость, так как совершенно запуталась в разных группах, приходивших и уходивших с начала праздника.
Ирамамове крепко уперся ногами в землю и поднял левую руку над головой, выпятив грудь. — Ха, ха, ахаха, аита, аита! — прокричал он, притопывая ногой. Этим бесстрашным кличем он вызывал противница нанести ему удар.
Молодой гость отмерил вытянутой рукой расстояние до тела Ирамамове; он несколько раз замахивался, и наконец, его сжатый кулак нанес мощный удар в левую сторону груди Ирамамове.
Потрясенная, я сжалась всем телом. На меня накатила тошнота, словно боль прошила мою собственную грудь. — Почему они дерутся? — спросила я Хайяму.
— Они не дерутся, — смеясь, ответила та. — Они хотят услышать, как звучат хекуры, жизненные сущности, обитающие у них в груди. Они хотят слышать, как при каждом ударе вибрируют хекуры.
Толпа взорвалась подбадривающими криками. Бурно дыша от возбуждения, юный гость отступил и ударил Ирамамове еще раз. С презрительно вздернутым подбородком, твердым взглядом, замерев в гордой стойке, Ирамамове принял одобрительные, возгласы мужчин. Только после третьего удара он изменил стойку. На мгновение его губы скривились в одобрительной усмешке, и тут же снова появилась ухмылка презрения и равнодушия. Постоянное притопывание ногой, как объяснила мне Хайяма, выражало не что иное, как раздражение: противник еще не нанес ему достаточно сильного удара.
С нездоровым оттенком праведного удовлетворения я надеялась, что Ирамамове хорошенько прочувствует каждый удар. Поделом ему, думала я. Увидев однажды, как он колотит свою жену, я стала испытывать к нему все нарастающую неприязнь. И все же я не могла не восхищаться тем, как он храбро держится среди этой толпы. В его прямой, как стрела, спине, в том, как он выпячивает разукрашенную ссадинами грудь, было что-то по-детски задиристое. Его круглое плоское лицо с узким лбом и распухшей верхней губой казалось таким ранимым, когда он в упор глядел на стоящего перед ним молодого противника.