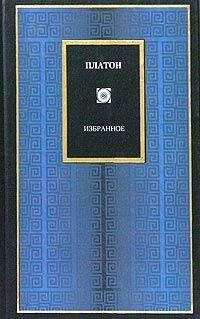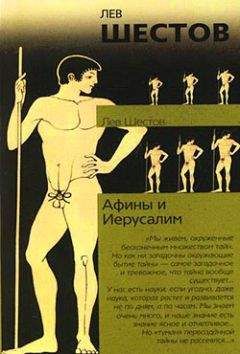У Гегеля практический разум живет не по соседству даже с разумом теоретическим, а перенесен в самое сердце последнего. «Человек должен возвыситься до отвлеченной всеобщности» – у Гегеля этот «категорический императив» исходит из «Логики». Нечего и говорить: Гегель до конца продумал Канта. Не хуже Канта он знает, что метафизика невозможна, метафизика, которая ищет Бога, бессмертия души и свободы воли, но она невозможна не потому, что разуму положены какие-то пределы, что категории нашего мышления применимы только к чувственно данному. Гегеля раздражала даже самая постановка вопроса о пределах человеческого разума, он, по-видимому, имел все основания сомневаться даже в том, что сам Кант в этом видел задачу «критики разума». Метафизика, которая открыла бы людям Бога, бессмертие души и свободу, невозможна потому, что ни Бога, ни бессмертия, ни свободы нет: все это дурные сны, которые снятся людям, не умеющим возвыситься над отдельным и случайным и не желающим поклоняться в духе и истине. От таких снов и от несчастного сознания, эти сны порождающего, нужно во что бы то ни стало избавить человечество. Все эти представления (Vorstellungen), пока человек не стряхнет их с себя и не войдет в область чистых понятий (Begriff), даваемых разумом, истина будет от него скрыта. Super hanc petram [38] держится вся философия Гегеля.
XI
Так учил Гегель, но все это нашел у Канта. Когда Кант позвал метафизику на суд разума, он знал, что она будет осуждена. И когда потом Фихте, молодой Шеллинг и Гегель стали домогаться на том же суде пересмотра процесса, они тоже знали, что дело метафизики безнадежно и навсегда проиграно. Свои огромные диалектические силы Кант напряг, чтобы очистить человеческую душу от чуждых ей элементов того, что она называет чувственностью. Но диалектики оказалось недостаточно: все, что принято называть «доказательствами», за известной чертой теряет способность принуждать и покорять себе. Можно «доказать», что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым, но как «доказать» человеку, что, если даже небо обвалится на него, он спокойно, точно это так и полагается, будет лежать полураздавленным под обломками? Такое доказать нельзя – такое можно только внушить, как нельзя доказать, а можно только внушить себе и другим, что Deus ex machina есть нелепейшее допущение и что необходимости дано суверенное право помыкать великим Парменидом. Кант, покоряясь своему предназначению или, говоря по Гегелю, духу времени, не брезгает и внушением как способом разыскания истины. Главное – добыть «всеобщность» и «необходимость», остальное – приложится. Всеобщность же и необходимость внушение обеспечивает не меньше, чем доказательства. Казалось бы, молитве нет места там, где речь идет о критике чистого разума теоретического или о критике чистого разума практического. Но Кант, не испрашивая ни у кого разрешения, молится пред долгом, и это сходит за «доказательство». Казалось бы, старая «анафема» давно уже выведена за ограду философского мышления, но, когда нужно выкорчевать из человеческой души все «патологическое» (у Канта слово «патологическое» не значит «болезненное и ненормальное», он это слово употребляет как синоним «чувственного»), Кант не пренебрегает и анафемой, и анафема тоже сходит за доказательство. «Предположим, – пишет он, – что некто ссылается на свою сладострастную склонность, так что если ему встречается соответствующий предмет и случай для этого, то это действует на него совершенно неотразимо; но если бы поставить виселицу пред домом, где ему дается этот случай, чтобы сейчас же повесить его по удовлетворении сладострастия, он и тогда не победил бы свои склонности? Не надо гадать, что он на это ответил бы. Но спросите его, если бы князь под угрозой смертной казни заставил бы его дать ложное показание против честного человека, которого он под вымышленными предлогами хочет погубить, мог ли бы он и тогда, как бы ни велика была его любовь к жизни, преодолеть ее в себе? Сделал ли бы он это или нет, он не мог бы и сам не решился бы сказать, но без колебания мы принуждены сказать, что он мог бы это сделать. Он судит, стало быть, что он может сделать что-нибудь, потому что он сознает, что он это должен сделать и опознает в себе свободу, которая иначе, без морального закона, осталась бы ему неизвестной!» Каков смысл этой «аргументации»? И осталась ли тут хоть тень той свободы, о которой Кант так много и красноречиво говорит в этом и других местах своих сочинений и которую вслед за ним и до него провозглашали лучшие представители философии? Чтобы обосновать свой категорический императив, Кант не нашел иного средства, кроме внушения и заклинаний. Он долго и горячо молился пред иконой долга, и, когда почувствовал в себе нужные силы, вернее, когда почувствовал, что сил у него нет, что его самого уже нет, что через него действует иная сила (когда он «возвысился до отвлеченной общности», выражаясь по Гегелю), а он сам стал безвольным и слепым ее орудием, он написал «Критику практического разума». Теоретический разум не может успокоиться до тех пор, пока не убедит всех, что он диктует законы природе, практический разум природу оставляет в покое, но его воля к власти требует господства над людьми. Опять на долю людей выпадает раrеrе, jubere же целиком достается «идее», «принципу», задача же философии сводится к тому, чтобы тем или иным способом внушить людям убеждение, что живому существу полагается не повелевать, а повиноваться и что отказ в повиновении есть смертный грех, за него же наказание – вечная гибель. И это называется свободой. Человек волен выбрать вместо parere – jubere, но уже никак не может сделать, чтобы тому, кто выберет jubere, полагалось спасение, а за раrеrе – гибель. Тут свобода кончается, тут все предопределено. Даже ipse creator et conditor mundi тут ничего переменить не может. И его свобода сводится к тому, чтобы повиноваться. Кант идет дальше, чем Сенека: он даже не согласен допустить, что Бог однажды приказал. Никто никогда не приказывал, все всегда повиновались. Всякое приказание есть Deus ex machina, знаменует конец философии. Это ему a priori известно. Но он и a posteriori, как мы сейчас видели, доказывает, что нравственный закон осуществляется, – правда, иначе, чем веления теоретического разума, но все-таки осуществляется: «сладострастника» виселица напугает, а человек, повинующийся моральному закону, и перед виселицей не спасует. Для чего было Канту хлопотать еще о таком «осуществлении»? Зачем грозить «сладострастнику» виселицей? Отчего не предоставить ему «свободу» следовать своим склонностям, раз свобода признается основной прерогативой человека? Но такая свобода для философа еще ненавистнее, чем Deus ex machina, и, чтобы убить ее. Кант не брезгает даже эмпирической виселицей, которой как будто совсем и не пристало вмешиваться в дела чистых априорных суждений. Но есть, видимо, предел философскому терпению. Благородный Эпиктет обрезывал носы и уши своим идейным противникам – Кант готов их вздернуть на виселице. И они, конечно, правы: иным способом, без помощи эмпирического принуждения (βία у Аристотеля), «чистым» идеям никогда не добиться победы и торжества, которое они так ценят.
И все же Кант считал без хозяина. Виселица ему не поможет, по крайней мере, не всегда поможет. Он говорит о «сладострастнике», т. е., прежде чем решилась судьба человека, надевает на него саван. «Сладострастнику» не грех обрубить нос или уши, не грех и повесить его, и уж никак нельзя предоставить ему свободу. Но попробуйте на минуту спуститься с «высот» чистого разума и спросить себя: кто такой этот сладострастник, с которым мы так беспощадно расправились? Кант вам ничего не ответит – он предпочитает оставаться или прятаться в общем понятии. Но недаром все стремятся сделать общее понятие прозрачным. В понятии «сладострастник» нетрудно, при желании, различить и Пушкина, написавшего «Египетские ночи», и Дон-Жуана испанской легенды, и Орфея и Пигмалиона древней мифологии, и даже бессмертного автора «Песни Песней». Если бы Кант об этом вспомнил или, лучше сказать, если бы, прежде чем выступать в роли гипнотизера, он сам не был загипнотизирован всесильной ’Ανάγκη, он бы почувствовал, что тут дело не такое простое и самоочевидности не такие самоочевидные и что ни его саван, ни его виселица ничего не предрешают и ничего не решают. Орфей не побоялся спуститься в самый ад за Эвридикой, Пигмалион вымолил для себя у богов чудо, Дон-Жуан подал руку ожившей статуе, у Пушкина даже скромный юноша отдает жизнь за одну ночь Клеопатры. А в «Песне Песней» мы читаем: любовь сильна, как смерть. Что осталось от внушений Канта? И какие вечные истины может дать его практический разум и тот нравственный закон, который этот разум несет с собой? И разве не ясно, что настоящая свобода лежит бесконечно далеко от тех областей, которые облюбовал себе и в которых живет практический разум? Что там, где закон, там, где раrеrе, там свободы нет и быть не может, что свобода неразрывно связана с тем jubere, в котором нас приучили видеть источники всех заблуждений, всех нелепостей и всего недозволенного? Пигмалион ни у кого не спрашивал, можно ли ему требовать чуда для самого себя, Орфей нарушил вечный закон и спустился в ад, хотя туда не мог и не должен был спускаться и никогда не спускался ни один смертный. И боги приветствовали их дерзания, и даже мы, образованные люди, когда слышим рассказы об их делах, порой забываем все, чему нас учили, и радуемся вместе с богами. Пигмалион захотел, и потому, что он захотел, невозможное стало возможным, статуя превратилась в живую женщину. Если бы в наше «мышление» вошла как новое его измерение пигмалионовская безудержная страсть, многое, что мы считаем «невозможным», стало бы возможным и что кажется ложным, стало бы истинным. Даже такое невозможное стало бы возможным, что Кант перестал бы клеймить Пигмалиона сладострастником, а Гегель признался бы, что чудо не есть насилие над духом, что, наоборот, невозможность чуда есть самое ужасное насилие над духом. Или я ошибаюсь: они все продолжали бы твердить свое? Продолжали бы внушать нам, что всякие страсти и желания (Neigungen) должны склониться пред долгом и что истинная жизнь есть жизнь умеющего возвыситься над «конечным» и «преходящим»? И Кальвин был прав: non omnes pari conditione creantur, sed aliis vita aeterna, aliis damnatio aeterna praeordinatur? Как ответить на этот вопрос?