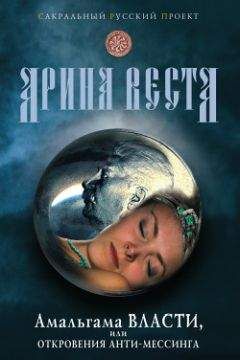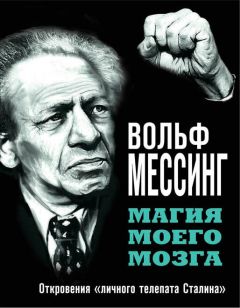– Пожди немного, – пролепетала Стеша, достала с полки утреннюю ковригу хлеба и поставила на стол жбан с молоком. – Сейчас в погреб за окороком схожу!
Выскочила Стеша в сени, набросила пуховую шаль, шубейку потуже лыком подвязала, натянула заячьи коты и выскользнула за ворота.
Река еще не встала под лед, только у берега звенел тонкий хрустальный припай и в черной заводи лучистыми рыбами плавали первые звезды. Стеша вскочила в спавшую у берега лодку-долбленку, оттолкнулась шестом, и быстрое течение закрутило лодку и поволокло ее к Нагольным камням, за перевал Туркан.
На рассвете причалила лодка к берегу в том месте, где впадала в Енисей широкая тихая Уча. Поднялась Стеша на перевал, и с вогнутой седловины Туркан-горы открылся ей путь в долину.
Далеко в зимней тайге видны черные и белые дымы. Черный, из волчьего помета, жгут тунгусские камы, подавая друг другу важные вести. Белыми и желтыми хвостами вздымаются в небо костры старателей, севших на золотоносных ручьях и протоках. В верховьях Учи вился веселый кудрявый дымок, и сердце толкнуло Стешу к далекому становищу. Час за часом шла она по осенним хлябям, по гнилым таежным болотам; кожаные коты промокли насквозь, и тулупчик оставлял на сучьях клочки рыжей шерсти. Слабела Стеша, и садилась в сырой снег, и тогда дитя давало ей силы и звало вперед, и в ночной тьме вышла она к огню. На берегу Учи, на широкой лесной поляне, раскинулся старательский стан: шалаш и землянка, а вокруг по кругу горели восемь больших костров.
– Стеша! – окликнул ее лесной сумрак голосом Северьяна, и вышел из темной чащи великан в овчинном тулупе, подхватил на руки измученную Стешу и отнес в круг костров.
– Почто так много огней горит? – очнувшись, прошептала Стеша.
– Шатун окаянный бродит, никак отогнать не могу! – певуче, как во сне, ответил Северьян.
– Любый, мой любый, дитя во мне толкается, просится на свет, – прошептала Стеша.
– Потерпи, милая, вместе сродим! Вот только дров в костры подброшу!
Кусая губы, слушала Стеша медленный ход младенца, она дышала ровно и без жадности, а рядом, незримая для Северьяна, стучала в бубен Шаманка, подсказывала спасительный ритм ее сердцу и дыханию. Над выгнутой спиной Туркана плыла высокая зимняя луна, и ночное небо вдруг уронило из непомерных своих очей яркую звезду-слезинку, и вышел из лона матери светлый, как месяц, младенец. Молчало дивное дитя, только шевелило беленькими ручками и ножками. А звезды все падали с неба, сыпались в тишине горние светочи, и открылся над таежной чашей зимний звездопад.
– Дочка, доченька моя, – прошептал Северьян. – Почто не кричишь?
И тогда слабым голоском пролепетала новорожденная несколько слов незнакомых и чудных – ангельского, должно быть, языка. Северьян на топорище перерезал пуповину и скрутил скважинку суровой ниткой. После бережно омыл дитя теплой талой водой и завернул в свою свадебную рубаху.
Приникло дитя к Стешиной груди, взяло губками материнскую святую чашу и приняло мощь земную и бессмертную Родову душу из млечного ковша.
Захрустели в чащобе сучья под тяжелыми слепыми шагами, растворились дебри лесные, и вышел из тьмы на свет человек в солдатской шинели. Тихо вскрикнула Стеша и, вздрогнув, прикрыла ребенка краем шубы, и пролилось молоко на стылую землю. Живые капли скользнули сквозь болотные мхи и вечную мерзлоту, и проточили теплые ходы в тысячелетних льдах, и достигли сердца земного, горячих материнских лав.
– Горя, сын? – опешил Северьян.
– Не сын я тебе, а ты мне не отец! – прохрипел мертвец и дуло черное, ружейное направил в грудь Северьяна.
Вздрогнул от выстрела Северьян, пятерней зажал рану на груди, но сквозь ладонь пролилась на снег рдяная брусника.
– Уйди, провались в черную прорву! Богом заклинаю… уйди! – крикнула Стеша.
– Дай млека земного отведать – и уйду… Навеки уйду! – пообещал мертвец.
И свершилось по слову Черного Кама: шагнул костяной призрак к Стеше и припал к ее нетронутой груди. Смертный холод проник в живую плоть от мертвых губ, но сердце святое, материнское, в эту минуту пожалело и простило Горю, брызнули из глаз мертвеца гнойные слезы, и рассыпался кромешник ворохом истлевших костей.
Роняя кровь, доползла Стеша до притока Учи, одной рукой волоча Северьянов тулуп со спеленатым младенцем: романовская овчина тем знаменита, что в воде не мокнет, упасет звездочку от стылых осенних вод. На волне овчина высоко вздулась и приподняла ребенка. Ласково баюкали ладони Учи новорожденную, качали колыбель из золотого руна и уносили вниз по течению.
Едва хватило Стешиных сил вернуться обратно, к догоревшему костру. Слабеющей ладонью провела она по лицу Северьяна, навсегда закрывая любимые очи, и обняла его, мертвого.
– Любый мой, любый, – прошептала она. – Никогда я больше тебя не покину, рядом буду…
Отвернула Стеша лицо от огня и глаза уже больше не закрывала: вышла душа из измученного тела. Так они, обнявшись, до весны и лежали. Медведь-шатун не тронул их тел, и лесное зверье обошло стороной круг из восьми остывших костров. Сошел снег, и там, где пролились на землю млечные капли, высыпали на белый свет таежные колокольцы, безымянные цветы.
Нашли Северьяна и Стешу на лебединый лет двое охотников из Усть-Цельмы и схоронили в одной могиле. По обычаю староверов вырыли печору под еловым комлем и заровняли… Ель не сосна, шумит неспроста, много помнит и знает, и слышен в ее ветвях невнятный шепот душ, отошедших от земного берега.
Начало зимы 1917 года
По лесной дороге резво рысила тройка ездовых оленей и несла легкую расписную расшиву. Щеголеватый кучер в красном кафтане дремал под звон бубенчиков. В люльке расшивы, закутанная в рысий мех, сидела сама Эден-Кутун – Хозяйка Ворги.
Вставало солнце, серебристой овчиной курчавились ближние сопки, и далекие склоны Чомбе зажглись утренним румянцем. Под высоким берегом парила вода, там черным клинком изогнулась Уча. На стремнине волны сходились острым хребтом, живым, подвижным гребнем, и волокли вниз по течению рыжий тулуп. На тулупе покачивался туго спеленатый кокон.
– Проснись, Илимпо, – вдруг закричала Хозяйка. – Видишь? Там, у порогов!
Быстрое течение реки кружило плот из овчины. Он обходил мели и колыхался на перекатах, грозя зацепить рукавом сухие хищные сучья, протянутые к воде. Илимпо выкатился из саней и, прыгая на валунах, поскакал вниз, к воде. Концом палки-каюра он зацепил тулуп и вытащил на отмель, не решаясь тронуть находку.
Хозяйка сама остановила оленей, подбежала к отмели и наклонилась над ребенком. Укачала волна младенца, и тихо спал он, завернутый в тугой свиток из родительских одежд.
– Земной поклон, дочь Воравы, – прошептала Хозяйка.
Она долго и безмолвно смотрела на личико новорожденной, потом закрыла глаза.
– Я – как Ты, – качнула она темными косами и повторила: – Яко Ты!
Тихий голос Камы качнул ближние кедры в пуховых оплечьях, и проснулось в скалах долгое эхо.
– Якуты… Якуты… – позвали таежные глубины.
И детские черты вдруг стали плавиться и меняться. В их мягких, едва намеченных линиях отразилась Кама: ее темные раскосые глаза с прямыми густыми бровями, красивые губы и бледный величавый лоб.
Кама развернула туго спеленутый свиток, раскрыла полы сорочки Северьяна, и под ее взглядом на ножке младенца проступила родовая отметина, похожая на тонкую извилистую змейку.
Высоко в заснеженных ветвях нежно присвистнула таежная птица, сверкнула жемчужно-сизым пером, и еловые лапы, густо присоленные инеем, уронили радужную пыльцу и осыпали овчину звездами-снежинками.
– Быть тебе дочкой Звездочкой, – сказала Хозяйка, – светлой Девой-Ведой…
Укрыв найденыша под шубой, Кама села в сани, и Илимпо погнал оленей к Солнцеву селению. По обычаю все свободные в этот час насельники Ворги вышли встречать Хозяйку.
Из терема, всплескивая руками и спотыкаясь в высоких валенках, уже бежал Селифанушка.
– Возьми, Селифанушка, это возлюбленное дитя, расти и воспитывай, – сказала Кама и протянула ему новорожденную девочку.
– Отчего себе не берешь?! – в неподдельном отчаянии воскликнул Илимпо.
– Привязаться боюсь, – тихо ответила Хозяйка. – Это будущая Кама, и воспитывать ее должен старец, но не отец. Это завет неприступный, даденный от века до века!
– Чем кормить будем, может, из стойбища кормилицу прислать? – волновался Илимпо.
– Выкормит ее горная мощь, млеко земное, что само родится на горных склонах, – ответила Кама.
Так и случилось по слову Хозяйки. Когда Веда, дочь Воравы, выросла, Селифан отвез ее на Урал, в город Чебаркуль. В свой срок вышла Веда замуж за Федора Бесфамильного. Был он болен тяжелой болезнью крови, прозванной «царским проклятьем», но благодаря мощи земной хворь его оставила, и только легкий недуг, не опасный для жизни, напоминал о прошлом. Взял Федор фамилию жены, и один за другим родили Воравы двух сыновей-богатырей: Данилу и Северьяна. Перед самой войной родился младшенький, названный Владимиром. Ликом Вова вышел в мать: чуть раскосые глаза и тонкие нежные черты лица. К нему, одному из трех братьев, перешло вещее Знание Камы и Сила русских Спасов.