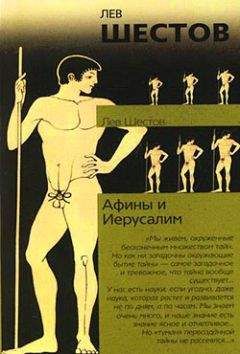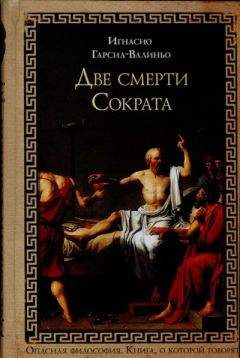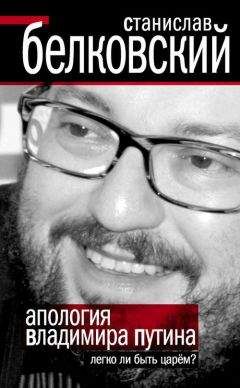И Бог ничего не боится – ибо все в Его власти. Не боится даже переложить на Своего Сына грехи всего мира, точнее, превратить его в величайшего грешника. «Omnes prophetae, – пишет Лютер, – viderunt hoc in spiritu quod Christus futurus esset omnium maximus latro, fur, sacrilegus, homicida, adulter etc., quo nullus major unquam in mundo fierit». (Все пророки видели в духе, что Христос будет величайшим разбойником, вором, богохульником, нечестивцем, прелюбодеем и т. д., – больше которого никто никогда в мире не был.) Христос, единородный и единосущный Сын Божий, т. е. сам Бог, есть величайший грешник, равного которому никогда в мире не было. Но ведь это значит, что Бог есть источник и творец зла: Лютера ведь нельзя заподозрить в докетизме. Пророки «видели» это и возвещали, как видели и возвещали, что Бог ожесточил, т. е. сделал злым, сердце фараона. Человеческому разуму, связанному всеобщими и необходимыми истинами и эти истины возлюбившему всем сердцем и душой, такое «видение» и такие утверждения, хотя бы они исходили от пророков, представляются пределом кощунства, хулой на Св. Духа, за которую мало пытки во всех действительных и фантастических огненных гееннах. Бог виновник. Бог творец зла! Absit (да не будет!), не восклицали, а не своими голосами кричали все – и ученые отцы церкви, и простые монахи. Раз зло есть на земле – то его творцом и виновником является не Бог, а человек: только таким образом можно оправдать и спасти всеблагого Бога. И точно: если вечные истины до Бога и над Богом, если однажды бывшее не может стать не бывшим, выбора нет: приходится противупоставить Богу, Творцу добра, человека, творца зла. Человек тоже становится creator omnipotens, ex nihilo omnia faciens. И искупления, освобождения от греховного прошлого, от кошмара смерти и ужасов жизни нет и быть не может. Остается единственный выход: признать во всеобщих и необходимых истинах и в разуме, эти истины нам несущем, эту bellua, qua non occisa, homo non potest vivere. Лютер почувствовал, что свобода вернется человеку лишь тогда, когда разум и приносимое разумом знание потеряет свою власть. И Ницше был, как мы видели, близок к этому. Он отказывался признавать свидетельство факта и пытался молотом своей воли разбивать самоочевидности. Но когда Заратустра спустился со своих высот к людям, ему пришлось заключить мир со своим страшным и беспощадным врагом. В последнем произведении Ницше, в его «Ессе homo», мы читаем (II, Warum ich so klug bin – конец): «моя формула величия человека – есть amor fati: ничего не изменять ни впереди, ни позади во веки веков. Не только выносить необходимость – еще меньше скрывать ее от себя – всякий идеализм есть ложь пред лицом необходимости, – но любить ее». Но ведь так именно учил декадент, павший человек, Сократ, это ведь и есть те плоды с дерева познания добра и зла, которым суждено было, по Гегелю, стать принципом философии для всех будущих времен. Тому же учил и Спиноза, воспринявший мудрость Сократа и видевший в добродетели блаженство. Вместо того чтобы вызвать на последний и страшный бой необходимость, Ницше, velut paralyticus, manibus et pedibus omissis (как паралитик с расслабленными руками и ногами), сдается на ее милость и вводит ее в самую сокровенную глубину души своей – обещает ей не только покорность и почет, но даже любовь, и обещает не за себя одного. Все должны покоряться, почитать и любить необходимость: иначе грозит отлучение. От чего отлучение? Amor fati есть формула величия, говорит Ницше, и кто не согласится принять все, что ему фатум навязывает, тот не может ждать похвалы, поощрения, одобрения, которое заключает в себе понятие величия. Старое «будете как Боги» вынырнуло Бог весть откуда и зачаровало Ницше, который на наших глазах делал такие героические усилия, чтобы перебраться по ту сторону добра и зла, т. е. по ту сторону всяких похвал, поощрений и одобрений! Как это случилось? Или здесь тоже невидимо присутствовал библейский змей, соблазнивший первого человека? Ведь amor fati значит в переводе на знакомый нам лютеровский язык: bellua, qua non occisa, homo non potest vivere. Ницше видит не в сковавших волю человека узах, а в воле человека и в его стремлении к могуществу. Соответственно этому он направляет все свои силы не к тому, чтобы уничтожить или обессилить врага, а чтобы убить в себе даже самое желание борьбы и приучиться видеть свое назначение в безропотной, даже радостной и любовной покорности тому, что придет извне, и притом неизвестно откуда. И это тот Ницше, который столько говорил о морали господ и так высмеивал мораль рабов. Ни пред чем, ни пред каким авторитетом не хотел он склониться, но когда он взглянул в лицо необходимости, силы ему изменили: он воздвигает ей алтари, которым мог бы позавидовать самый требовательный обитатель Олимпа. Оправдалось все, что рассказывал Лютер в своей «De servo arbitrio» и в «De votis monachorum» и что самому Ницше открылось в судьбе Сократа, но что в своей судьбе ему видеть не было дано: падший человек ничего не способен сделать для своего спасения, он утратил свободу выбора, и все, что он делает, не отдаляет, а приближает его к гибели; и чем больше он «делает», тем больше предает он себя, тем глубже он падает. И еще второе, для нас не менее важное и существенное обстоятельство. Падший человек – и опять, как мы помним, Ницше это видел, когда глядел на Сократа, – вверяется знанию, в то время когда именно знание парализует его свободу и неизбежно ведет его к гибели. Ведь необходимость, о которой нам говорит Ницше, – откуда пришла она, кто или что нам ее принесло? Если бы Ницше предложили такой вопрос, он бы, вероятно, ответил, что ее принес людям «опыт». Но мы уже убедились, что в опыте необходимости отыскать нельзя. Знание добывает идею необходимости из совсем иного источника, чем опыт. И, вместе с тем, знание без идеи необходимости не может продержаться даже и одно мгновение. Но где необходимость, там нет и не может быть свободы, стало быть, там, где знание, – там тоже не может быть свободы. Ницше, казалось, был на волосок от того, чтобы бросить вызов знанию и пойти за истиной к другому источнику. И не только потому, что пример Сократа предостерегал его от последствий, к которым приводит преувеличенное доверие к знанию. Ницше знакомы переживания, свидетельствующие о том, что все его существо рвалось прочь от знания, в те области бытия, где чары знания уже больше не связывают человека и не тяготеют над ним. В том же «Ecce homo» он с неподражаемым искусством рассказывает о них. Читатель, надеюсь, не посетует за длинную выписку – вопрос имеет для нас слишком важное значение. «Имеет ли кто-нибудь в XIX столетии ясное представление о том, что поэты более сильных, чем наша, эпох называли вдохновением? Я попытаюсь описать это. Всякий, над кем предрассудки сохранили хотя бы самомалейшую власть, едва ли мог бы отделаться от мысли, что он является выражением, медиумом, проявлением высших сил. Понятие откровения здесь оказывается наиболее подходящим к действительности – в том смысле, что внезапно человек с необычайной уверенностью и ясностью видит и слышит что-то, что его потрясает и как бы опрокидывает в самой сокровеннейшей глубине его существа. Не прислушиваешься, не ищешь: принимаешь, не допытываясь, кто тебе приносит дар, мысль прорезывает, как молния, с необходимостью, не допускающей колебаний: я никогда не знал выбора… Все происходит в высокой степени не произвольно, но как бы в буре и грозе чувства свободы, полной безусловности, мощи божественности…» Как мало похожа та необходимость, о которой здесь рассказывает Ницше, на необходимость, приведшую уже древних к идее рока, равнодушного ко всему. Невольно возникает вопрос: когда Ницше был во власти «предрассудков» – тогда ли, когда он прославлял amor fati в убеждении, что над роком нет никакой управы, или когда он утверждал, что хотя все в нем происходит «в высшей степени несвободно» – но тем не менее в буре чувства свободы, могущества, божественности? Он так заканчивает свои признания: «Таков мой опыт вдохновения; я не сомневаюсь, что нужно отойти на тысячи лет назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать – таков и мой опыт». Думаю, что эти слова дают ответ на поставленный вопрос: временами Ницше были много ближе «предрассудки» людей, живших за тысячелетия до нас, чем «истины» наших современников. И все же, в последнем счете, он отнес свои прозрения на суд не тех предрассудков, которыми питалась древняя, ничего не боящаяся свобода, а того знания, которое породило бесстрастие, безволие и тупую покорность современной мысли. Идея «вечного возвращения» захотела «обоснования» и пошла выпрашивать себе право на существование все к тому же fatum’y. Она ведь не может держаться своей волей – у нее воли нет, не может она тоже держаться волей какого-либо живого существа – у живых существ нет власти. Все зависит от того, согласится или не согласится fatum отвести ей какое-либо место в общем строе бытия. Ибо решения fatum’a, чего бы они ни касались, жизни ли отдельного человека или всех людей, даже всего мироздания, неизменны и непреоборимы, и добродетель как простого смертного, так и мудреца состоит в том, чтобы не только принимать, не только почитать, но любить решение fatum’a. Нет надобности здесь подробно рассказывать, как Ницше выпрашивал у фатума разрешения своей идее о вечном возвращении. Ницше утверждал, что фатум внял его мольбам. Но вряд ли он и сам серьезно верил, что идею «вечного возвращения» можно «доказать» и «обосновать» и что те соображения, которыми он ее обосновал, могли хоть кого-нибудь убедить, хотя он добросовестно и честно рассуждал – не как те отдаленные предки его, с которыми он перекликался в «Заратустре», а как полагается рассуждать человеку, стоящему на уровне современного образования, т. е. исходя не из идеи власти, а из идеи покорности необходимости. По своей «доказательности» идея вечного возвращения даже в том урезанном виде, в каком он ее привел на высшее судилище, оказалась позади многих других современных идей, которые Ницше так ядовито высмеивал. Идея вечного возвращения, точнее, то, что Ницше открылось под этим именем, может удержаться только тогда, когда высшее седалище, на котором восседает необходимость, будет разрушено. И на это седалище Ницше должен был бы направить свой молот. Все муки, все ужасы отчаяния, ненависти и отвращения, все радости и надежды, которые дано было испытать Ницше, нужно было направить к тому, чтобы свалить это чудовище. По-видимому, он и сам видел в этом свою жизненную задачу и делал нечеловеческие усилия, чтобы осуществить ее. Он принял на себя страшную тяжесть и готов был принять еще большие тяжести. Он говорит в одном из своих писем, что хотел бы испытать все ужасы, какие хотя когда-нибудь выпадали на долю человека, ибо только при этом условии он поверит, что ему действительно открылась истина. И его желание было исполнено. Едва ли можно назвать еще кого-нибудь из мыслителей XIX века (кроме разве Киркегарда), кому пришлось вынести то, что вынес Ницше. Но оказалось, что этого еще не было достаточно, чтобы обрести нужную смелость и бросить вызов необходимости. Когда он подошел к необходимости вплотную и взглянул ей в глаза – силы ему изменили и руки у него опустились, как опустились руки у Сократа, у Спинозы. Das Notwendige verietzt mich nicht, amor fati ist meine innerste Natur (необходимость меня не оскорбляет, amor fati моя истинная природа), заявляет он в «Ессе homo», словно забыв все, что он столько раз говорил о морали рабов и господ, о воле к власти, о свободе, лежащей «по ту сторону добра и зла». Вместо того чтобы бороться с отвратительным чудовищем, он становится его союзником, данником, рабом и свой молот направляет против тех, которые не то что не покоряются необходимости (таких нет: необходимости все покоряются, и мудрецы и глупцы), а против тех, которые не хотят видеть в покорности необходимости высшее благо и блаженство. Amor fati становится предметом его гордости, с eritis sicut dei, scientes bonum et malum, он связывает все свои упования. И философия его, как философия Сократа и Спинозы, превращается в назидание: человек должен с душевным спокойствием сносить удачи и неудачи, с хорошим человеком не может произойти ничего дурного, ибо нужно уметь находить блаженство и в фаларийском быке. «Жестокость» Ницше, которой в свое время люди так ужасались, не от Ницше пошла. Ее принял в свою душу первый человек, соблазнившийся плодами от дерева познания добра и зла. Ее возвестил мудрейший из людей, открывший всеобщие и необходимые истины. Наследственный грех тяготеет над падшим человечеством, и все попытки преодолеть его разбиваются, как волны об утес, о невидимую стену предрассудков, которым мы поклоняемся, как вечным истинам. И Ницше не избег общей участи: идея необходимости очаровала его и переманила его на свою сторону – он сам ей поклонился и звал людей молиться к алтарю, на котором восседала bellua, qua non occisa, homo non potest vivere.