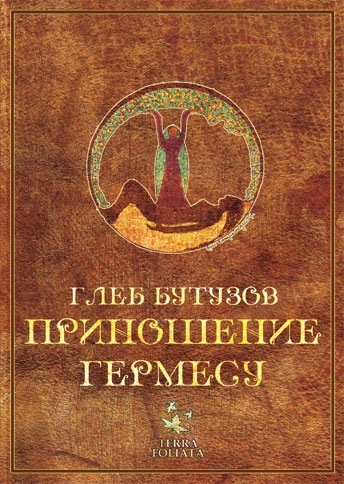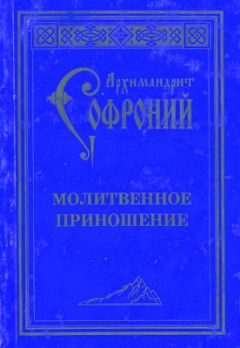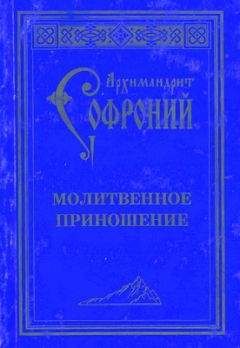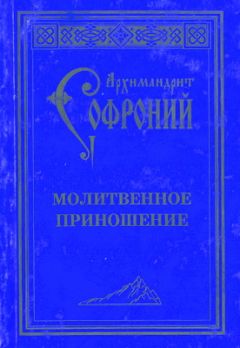связь трубадуров и тайных герметических орденов скорее очевидной. В свете такого положения вещей не составит никакого труда связать
amour courtois, или
Minne, c той любовью, коя связывает Солнце и Луну алхимиков и находит своё отражение в многочисленных эротических рисунках и гравюрах, сопровождающих европейские герметические трактаты от Средних Веков до позднего Возрождения, а также понять смысл двух последних строк песни
Mout jauzens me prec en amar Гийома IX, каковую мы привели выше.
Здесь следует отметить ещё один весьма важный момент, часто упускаемый из виду, каковой имеет непосредственное отношение к одной из тем третьего раздела данной статьи: «Странным образом у нас отсутствуют малейшие свидетельства того, что трубадуры сопровождали своё пение аккомпанементом или вообще умели играть на каких-либо музыкальных инструментах. Однако бродячие артисты из низших классов, осуждаемые церковью, о которых мы начинаем слышать примерно с IX века, известные повсюду в Европе как jongleurs или joculators (Gaukler в Германии и скоморохи в России – уже в 1068 году, согласно Нестору Летописцу), выступавшие повсюду – от дворцов и замков до сельских трактиров – были певцами и исполнителями на всех видах музыкальных инструментов…» [195]
Некоторые из них оседали при дворах аристократов и помогали своей игрой пению хозяев, выступая в качестве первых профессиональных аккомпаниаторов и параллельно осуществляя обмен репертуаром; этот скорее очевидный «исторический» вывод не так интересен в рамках выбранной нами тематики, как тот аспект сего явления, каковой виден лишь в свете единой Традиции, с чьей временно́й мутацией мы здесь имеем дело, и на котором останавливается Рене Генон: «…Это отсылает нас напрямую к случаю жонглёров, способ действия которых очень часто служил «маскировкой», во всех формах традиции характерной для инициатов высшей ступени, в особенности в тех случаях, когда они должны были выполнить некую «специальную» внешнюю миссию». [196]
У нас есть все основания предполагать, что этой «внешней миссией» в эпоху позднего Средневековья стало, в том числе, сохранение сакрального (и теперь уже эзотерического) аспекта музыки, каковой обрёл явную тенденцию к забвению в церковных службах данного периода. XII век явился тем водоразделом, который навсегда изолировал тайное учение «светской» музыки трубадуров от «открытой магии» церковной литургии, всё более теряющей свою магичность. При этом мы вынуждены признать, что упомянутая тайная «внешняя миссия» также потерпела поражение два столетия спустя, в том самом роковом XIV веке, когда мир начал быть современным, и, по сути, все средства его исправления, то есть возвращения в лоно Традиции, оказались утрачены навсегда – в той степени, в какой под словом «всегда» понимаются рамки текущего цикла. Наступил период, знаменующий полный триумф частного, количественного и профанного, то есть подлинно «светского» и обыденного – период, ставший колыбелью всех форм современного музыкального искусства Запада, известный нам под весьма характерным титулом «эпохи Возрождения».
Сымпровизировать шестиголосую фугу – всё равно, что выиграть одновременно шесть шахматных партий вслепую.
Дуглас Хофштадтер
О развитии музыкального искусства в последующий период написано столько и в таких восторженных тонах, что есть, пожалуй, чрезмерная горечь в попытке «очернить» этот период какими бы то ни было негативными оценками; поэтому мы просто приведём несколько разнородных фактов, которые, подобно фонарным столбам, можно демонстративно не замечать, но обходить сторонникам «прогресса» в музыке придётся всегда. Итак, если начать с личности музыканта и жеста, который символизирует его искусство, достаточно констатировать полную тождественность фигуры Орфея, поющего и аккомпанирующего себе на лире в положении сидя, и фигуры библейского царя Давида, занятого тем же, что находит своё отражение в их бесчисленных изображениях соответственно на древнегреческих вазах и в средневековых манускриптах. Как уже упоминалось выше, данному солнечному аполлоническому принципу противопоставляется хтонический принцип сатира Марсия, пляшущего и играющего на флейте, чья фигура эквивалентна часто изображаемым на греческих вазах гетерам, которые танцуют со сдвоенным авлосом в руках или возлежат с ним же на фоне чаши с вином. Тем не менее, в обоих этих случаях, символизирующих два аспекта музыкального искусства, исполнитель выступает как певец, то есть поэт и музыкант, единый источник магического звука. Однако в IX веке происходит разделение функций музыканта и поэта; с сего момента поэт, сочиняющий текст для вокального исполнения, уже называется не «творцом песен», но гимнографом, что говорит само за себя; таким образом, возникает раскол теперь уже внутри аполлонического аспекта музыки. Тем не менее, в лице «светского исполнителя», трубадура, трувера или миннезингера, статус самостоятельного певца, то есть одновременно исполнителя и создателя произведения, сохраняется вплоть до XVII века – пока ведущую роль среди аккомпанирующих инструментов играют разнообразные струнные и деревянные духовые, то есть потомки традиционных инструментов древности. Певцами в старинном смысле слова были Дюфаи, Обрехт, Окегем, Жоскен Депре; Каччини и Доуленд пели и аккомпанировали себе на лютне, подобно Орфею. Однако в то время как средневековая лютня имела четыре струны, [197] их число с начала «Возрождения» увеличилось до шести, затем до семи, восьми, и, наконец, до десяти, что совершенно недвусмысленно отражает ренессансную тенденцию к безудержному «развитию» в области количества. [198]
Однако дальнейшее движение в этом направлении оказалось затруднено в силу самой конструкции традиционного струнного инструмента (гриф с десятью сдвоенными струнами представляет собой далеко не комфортное поле для звукоизвлечения). И тут на помощь приходит ренессансная изобретательность: к старинному псалтериону приделывается клавиатура и механизм для щипания струн. Так было положено начало развитию клавишных щипковых инструментов, число струн которых могло быть в принципе неограниченным. [199]
Безусловно, это начало ознаменовало конец орфического принципа в музыке, каковой не замедлил наступить в XVII веке, когда «композитор стал просто «клавишником». [200]
С этого момента и до сегодняшнего дня «сочинитель музыки» неразрывно ассоциируется с клавиатурой; представить себе Бетховена, поющего и аккомпанирующего себе на лютне не легче, чем вообразить Орфея, сидящего в сюртуке за роялем. Во многом благодаря этому мы теперь воспринимаем музыкальное творение исключительно через призму «исполнителя», то есть интерпретатора, чьё мировоззрение может быть прямо противоположно мировоззрению исполняемого им автора и чьи понимание конечных целей музыки, степень духовного развития и эстетические ориентиры зачастую не соответствует никаким стандартам – это просто ремесленник, в той или иной степени честно пытающийся заработать свой хлеб, продавая талант (при его наличии) или пот (в отсутствие таланта), а иногда всего лишь ловкость антрепренёра. Мы более не слышим голос создателя музыки – ни в прямом смысле, ни в переносном. [201]
Дальнейшее