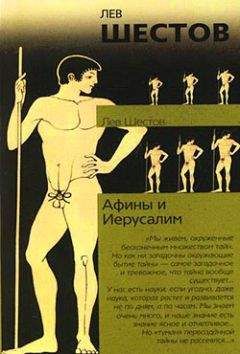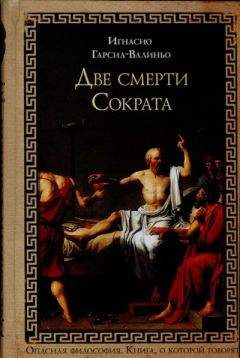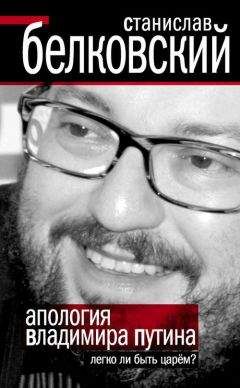IX
Место не позволяет мне проследить здесь за Жильсоном все то, что сделали схоластики в области философии, или, точнее, что получалось у схоластиков, когда они пытались и поскольку они пытались, пользуясь унаследованными ими от греков принципами и методами исследования, извлекать из Писания вечные и незыблемые истины: пред лицом дерева жизни и дерева познания они, как и первый человек, не в силах были преодолеть искушения «будете, знающие». Для схоластиков, как и для греков, последним источником истины являлся разум с его неизменными законами. Оттого, как мы убедились, они так бережно охраняли закон противоречия и жертвовали ради него даже всемогуществом Творца. Оттого бл. Августин допускал в падшем человеке свободную волю, и несмотря на то, что она безропотно покорилась закону, по которому «dans un monde оù le mal est un fait donné dont la réalité ne saurait pas être niée», – зло нужно «объяснить» и принять. Спорить с греками – значило вперед осудить себя на поражение, или, точнее, спорить с греками можно было, только решившись раз навсегда отказаться и от их принципов, и от их техники мышления. «Если хочешь все подчинить себе, то подчинись сам разуму» – таков итог эллинской мудрости, как его формулировал Сенека. Что могло на это ответить средневековье? Могло оно в этом усмотреть искушение? Весь наш жизненный опыт и все наше разумение на стороне греков: философия в этом отношении является только более систематизированным и совершенным выражением того, в чем каждый человек на каждом шагу непосредственно убеждается: с фактом не спорят, факт есть последняя, окончательная действительность. Закон противоречия и проходящий под его защитой и столь же, как он, незыблемый закон, что однажды бывшее не может стать не бывшим, как бы вписаны в самый строй бытия, и даже Всемогущему Творцу не дано высвободить бытие из их власти. Только принявши их и поклонившись им, человек может, как уверял нас выученик греков Сенека, овладеть миром. Но в Писании мы читаем иное. Когда могучий и умный дух, точно повторяя Сенеку, сказал: все это дам тебе, если, павши, поклонишься, – он услышал в ответ: «отойди от меня, сатана, ибо написано – Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Иначе говоря: разуму с его законом противоречия, с его дважды два четыре, с его каменными стенами (однажды бывшее не может стать не бывшим; в мире, где зло есть факт, его реальность отрицать нельзя; человек естественно произошел от обезьяны и т. д.), покорность которым является условием возможности всяческих благ, даже не возражают: его гонят как захватчика, как узурпатора. Так учит Писание. Когда Достоевский грубо высмеивал притязания разума на всеобщие и необходимые истины, он только следовал за Св. Писанием, и это было – человеческим, слишком человеческим, но все же imitatio Christi (подражание Христу). У разума нет и быть не может ни одной всеобщей и необходимой истины, и ни ему, и никому другому, кроме Творца, не дано вписывать законы в строй бытия. Но недаром Кант говорил, что опыт только раздражает философа: того, чего рациональная философия добивается, в опыте нет. Опыт нисколько не свидетельствует о том, что закон противоречия «не подпадает под всемогущество Бога» или что однажды бывшее не может стать не бывшим. Все «каменные стены», все «дважды два четыре» есть уже некая прибавка к опыту, из нее же первый искуситель соткал свое «будете знающие».
В вечных, не зависящих от Творца истинах, соответственно этому, Писание видит только роковой обман, внушение, наваждение, и если первый человек, а за ним и все мы не в силах и даже уже не хотим от этих истин освободиться, то это меньше всего дает нам право видеть в них нечто последнее, окончательное и, стало быть, успокаивающее и даже мистическое. Наоборот, это должно стать источником непрерывной, мучительной, неизбывной тревоги. И несомненно, что такая тревога живет и всегда жила в человеческих душах и средневековью была даже слишком знакома. Но несомненно и то, что человек больше всего на свете боится тревоги и все усилия направляет к тому, чтоб погасить ее в себе. Принять что угодно – даже материю, косность, безразличные ко всему законы – за нечто навеки непреодолимое и не подлежащее преодолению, чтобы только больше не тревожиться и не бороться, non lugere neque detestari, – греческая философия никогда не решалась выйти за пределы этого идеала. Отсюда пришло к бл. Августину, к Ансельму Кентерберийскому и всем, кто шел за ними, их «верю, чтобы познать». Отсюда и спинозовское «не смеяться, не радоваться, не ненавидеть, а понимать». Поразительно, что в наши дни Ницше, который возвестил так всех ошеломившее «по ту сторону добра и зла» (в этом никто – ни он сам – не узнали отречения от плодов с запретного дерева), о морали господ, о воле к власти (Deus omnipotems ex nihilo creans omnia), закончил торжественными гимнами amor fati (любовь судьбы): величайшая мудрость – возлюбить неизбежное. Он забыл, что Сократ, в котором он умел узнать падшего человека par excellence, именно этому учил. Стоики ведь целиком вышли из Сократа, и, когда Сенека писал «non pareo Deo, sed assentior ex animo ilium, nec quia necesse est sequor» (я не повинуюсь Богу, но душою согласен с Ним и следую за Ним, не потому, что это необходимо), он только повторял Сократа.
Средневековье в этом отношении не могло и не хотело разрывать с традициями эллинской философии. Не могло, так как заимствовало у нее основные принципы и технику мышления, не хотело – ибо это дело non volenris, neque currentis, sed miseremis est Dei (Rom. IX. 16 – не желающего и не подвизающегося, но того, кого Бог милует). В этом отношении особенно поучительны главы второго тома труда Жильсона, названные: L’amour et son objet, Libre arbitre et liberté chrétienne. Loi et moralité chrétienne.[148] Средневековая философия делает неимоверные, порой отчаянные усилия, чтоб, приняв в себя греческую мудрость, оберечь истину библейского откровения. Но все усилия остаются бесплодными: откровенная истина становится до неузнаваемости похожей на истину естественную. И прежде всего это выражается в том, что она не хочет признать своей зависимости от Творца, а хочет, чтоб Творец ей покорился. Оттого и получается столь неожиданный и парадоксальный результат: когда читаешь названные главы жильсоновского труда, в которых автор, со свойственным ему мастерством, на сравнительно немногих страницах сконцентрировал основные идеи схоластики – иной раз кажется, что речь идет не о средневековых философах, а о философии Спинозы и что многочисленные ссылки на Писание нужно понимать в переносном смысле или просто видеть в них досадную оплошность, от которой не избавлены даже и настоящие, большие мастера. О чем бы ни говорил средневековый философ – о душевном мире, о любви к Богу, о добродетели, о природе, о свободе, каждый раз вспоминается голландский отшельник. То же тяготение к твердому, неизменному порядку мира наряду с равнодушием и даже презрением ко всем жизненным благам – Спиноза, как известно, сводил их к divitiae, honores et libidines (богатство, слава и чувственные удовольствия), – то же прославление созерцания и связанных с ним высших духовных радостей, та же свобода человека qui sola ratione ducitur, – приладившаяся к незыблемой закономерности строя бытия (homo emancipatus a Deo) и, наконец, доминирующая над всем amor Dei intellectualis. Для средневековой философии, пишет Жильсон (II, 70), «I’amour humaine… n’est qu’une participation finie de l’amour que Dieu a pour lui-même».[149] И еще: «La charité de Dieu n’est que la générosité de l’être dont la plénitude surabondante s’aime en soi-même et dans ses participations possibles» (ibid., 71).[150] A у Спинозы (Eth. V, XXXVI) мы читаем: «Mentis erga Deum amor intellectualis pars est infiniti amoris, quo Deus se ipsum amat» (интеллектуальная любовь к Богу нашей души есть часть бесконечной любви Бога к самому себе) и в королларии еще: «hinc sequhur quod Deus, quatenus se ipsum amat, homines amat et consequenter quod Amor Dei erga homines et Mentis erga Deum Amor intellectualis unum et idem est» (отсюда следует, что Бог, поскольку Он любит самого себя, любит людей, и, следовательно, любовь Бога к людям и интеллектуальная любовь души к Богу – одно и то же). Все равно, в данном случае, удастся ли нам установить, что основоположные идеи Спинозы получены им непосредственно от греков или посредственно через средневековых философов, – существенно, что в них нет и быть не может, при всей нашей готовности к расширительному толкованию, и следа того, чем жила и питалась иудейско-христианская мысль. Философия Спинозы, как бы высоко мы ее ни расценивали, предполагает как conditio sine qua поп (непременное условие) полное отречение от истины Откровения. Для него Св. Писание не имеет ничего общего с истиной, как и истина ничего общего с Писанием не имеет. Никто из его современников так открыто и последовательно и с таким для XVII-го столетия мужеством не противупоставлял повествованиям Писания аристотелевское «много лгут певцы», как Спиноза. Если же в итоге оказывается, что схоластики так близко подошли к Спинозе (можно было бы показать, что учение схоластиков о бытии, покоящееся на библейском «Я есмь тот, кто есмь», ничем от спинозовского учения о бытии не отличается), то уже из того одного мы вправе заключить, что они, как философы, вдохновлялись не Св. Писанием и что в школе maestro di colori chi sanno они научились искать и находить то, что им нужно, не в «безумии проповеди», а в самоочевидностях разума.