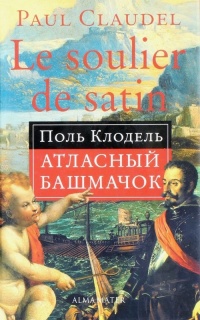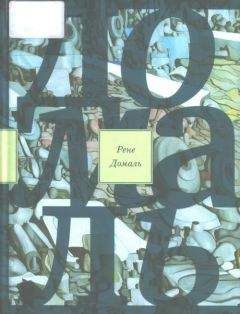глубоко, мы тем самым вынуждены будем видеть в Ангеле скорее женскую фигуру, сыграть которую могла бы актриса, наиболее похожая внешне на Пруэз.
Две женщины, борющиеся между собой, в особенности если две на самом деле есть одна, могут показаться более захватывающими, чем если представить, что это мужчина и женщина. Ангел женского рода, таким образом, нам кажется более соответствующим замыслу Клоделя, но его “женственность”, естественно, очень удалена от манерностей, которые обычно подразумеваются в общепринятой традиции под этим словом. Ангел — ипостась Сильной Женщины, составляющей одну из сущностей Пруэз. Он — ее идеальное, сверхчеловеческое, божественное начало, ее “сверх–я”, грубо говоря. Но любое из этих определений по–своему исказило бы основную реальность связи, которая в самом ее существе связывает “секретным родством” [6] Пруэз и Ангела. Так как Ангел для Пруэз не что иное, как то, что сам поэт определил в “Vers d’exil”: “Кто–то во мне больше я, чем я сам”, то есть Бог, но Бог, которого было бы слишком бледно определить только как личного, тогда как он существует как самый неопровержимый корень, основа моей индивидуальности, того существа, которым я являюсь. В том, что я есть наиболее я, я становлюсь абсолютным Другим. Природа Ангела не может быть божественной иначе. Он становится Богом, представляет Бога только потому, что он — абсолют Пруэз.
Именно поэтому Ангел в двух сценах не может сопровождать никого иного, кроме Пруэз. Донья Музыка не нуждается в Ангеле, чтобы остаться одной, драматургу достаточно четверых Святых и соположения монологов. Пруэз, героиня без монолога, через своего Ангела и вместе с ним, познает поединок патетических диалогов, которые объективизируют для зрителя ее длинный бунт против себя самой и против Бога. Ангел — одиночество Пруэз. Через Ангела Клодель подарил своей героине то, что ни Китаец, ни Японец никогда не позволят достичь Родриго: остаться лицом к лицу со своей собственной сущностью. Родриго достигнет этого только в самом конце пьесы, в ослепительном и умиротворенном видении “моря и звезд”.
Таким образом оригинальность персонажа Ангела позволяет лучше очертить саму Пруэз. Она не такая героиня, как другие, не простой объект и чистый предмет страсти, которую разветвленная интрига разворачивает посреди континентов.
Благодаря Ангелу Пруэз избегает по меньшей мере двух монологов, позволив тем самым оставить монологи таким персонажам, как Святой Иаков или Луна, у которых нет другого способа самовыражения. И более прозаически — Ангел позволяет избежать таких условных персонажей, как наперсники, наперсницы, служанки или кормилицы, а также искусственных диалогов, которые они на протяжении всей театральной истории обычно поддерживали с героями. Наконец, Ангел не остается в изоляции. Клодель вписывает его в целую систему духовных существ и реальностей, о которых я упоминал вначале. Он — первый среди целого созвездия, составляет с ним общую структуру, он — живая частица ансамбля. Таким образом, Клоделю не нужны традиционные крылья, чтобы обнаружить и выявить свой персонаж, существование которого раскалывается на разные фигуры: то он примеряет на себя роль зрителя, созерцающего спящую женщину, то роль ведущего, приглашающего публику посмотреть на нее, то актера, то вестника, то теолога, который пытается образумить, или еще чувствительной души, переполненной жалости.
Чтобы не впадать в теологическое однообразие, автор сыграл не на поверхностной психологии, не на психологии глубинной, но на драматургии возвышенного и действенного. Мы больше не задаемся вопросом о правдоподобии или чувствах Ангела, так как мы заворожены интенсивностью, с которой он сумел нам его передать в сцене, которая могла показаться бесконечной.
Эта интенсивность подпитывается соединением с космосом, растворением в космосе. Как Луна и звезды, Ангел является выразителем единства творения — творения Вселенной и творения пьесы, гарантом “всех этих вещей, что существуют вместе”. Теолог и драматург шагают в ногу. Ангел — в гораздо большей степени фермент единения и непрерывности, нежели вестник разрыва и чужеродного вмешательства. На этом пути, однако, тоже существует риск. Сама реальность Ангела как персонажа может быть поставлена под сомнение. Например, именно так считает Жан–Поль Риштер, для которого Ангел не имеет больше собственной реальности и становится своего рода частью сна героини, частью раздвоенного сознания, которое приводит к осознанию своей сущности [7]. Безусловно, сцены с Ангелом в “Атласном башмачке” могут быть прекрасно прочитаны и сыграны как сцены раздвоения, когда Ангел, если употребить термин отца Булгакова, становится “небесным я”, “онтологическим основанием личности” героини [8]. Здесь есть между небом и личностью высшее соответствие, теологически верное и театрально очень сильное, к которому французская и вообще западная традиция не приучена. Ангел Клоделя великолепно иллюстрирует концепцию, которую представляет, например, Филипп Фор в своем труде об Ангелах: “Человек как бы приглашается своим ангелом к внутреннему совершенствованию, к тому, чтобы наполнить свою потенциальную богоявляющую сущность, стать живой иконой, земным проявлением божественной жизни. Эта концепция небесного полюса личности, интегрального эго как отражения Бога, существует в христианстве, даже если она не дала на Западе толчок ко всем возможным продолжениям сюжета”. Таким образом, Ангел в “Атласном башмачке” — сценическое выражение мира иного, который одновременно в сердце нашего. Он свидетельствует не столько о благовещении, сколько о воплощении. “Именно через земное тело и существа материальные душа Клоделя познала мир душ и узнала Бога. Он щедро принял ограниченное и нашел там неисчерпаемое. Так как для него между материальным миром и миром духовным не было разрыва. Существа видимые и чувствующие имеют миссию ввести нас в мир невидимый, такой же реальный, как и они, и еще более живой” [9].
Мишель Отран,
профессор Сорбонны,
Университет Париж–ΙV
ВЕДУЩИЙ, ОТЕЦ ИЕЗУИТ
ВЕДУЩИЙ Обратите, я прошу вас, братья мои, свои взоры на эту точку в Атлантическом океане, несколькими градусами южнее экватора, на полпути между Старым и Новым Светом. Здесь нам прекрасно изобразили обломки судна без мачт, которое плывет по воле волн. Все большие созвездия обоих полушарий — Большая Медведица, Малая Медведица, Кассиопея, Орион, Южный Крест — подвешены в образцовом порядке, как огромные канделябры, как гигантские рыцарские доспехи на круге неба. Я мог бы дотронуться до них своей тростью.
По всему небесному кругу. А вот здесь живописец, которому захотелось бы изобразить злодейства пиратов, — почему бы не англичан? — на этом несчастном испанском суденышке, мог бы нарисовать хоть вот эту мачту с реями и снастями, упавшими поперек палубы, и эти опрокинутые пушки, и эти открытые люки, и эти огромные пятна крови, и эти трупы повсюду, а особенно вон ту группу монахинь, рухнувших друг на дружку. К