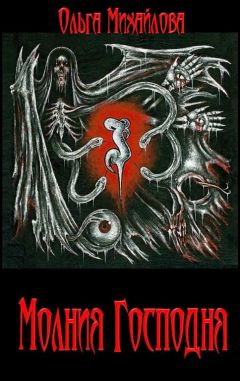Ольга Михайлова
FULMEN DEI[1]
Fiat justitia ruat caelum[2]
из которой вдумчивый читатель, а именно для такого и написан этот труд, узнает о скорбях Церкви в нелегкую годину появления Лютеровой ереси, и где герой романа выглядит таким, каким его создал Господь.
Вечерний луч солнца в последний раз мелькнул за монастырской оградой и погас. В глубине потемневшего коридора послышались торопливые шаги, и кардинал Амброджо да Сеттилья́но, милостью папы Кли́ента VII legatus a latere[3], наделенный правом снимать с кафедр епископов, поднялся навстречу епископу Лоренцо Дориа, провинциальному приору доминиканского ордена. Сеттильяно мог бы встретить епископа и сидя — но, умудрённый годами, он не унижал достоинство нижестоящих.
Не унижал без нужды, разумеется.
Кардинал не только поднялся, но и даже слегка улыбнулся Провинциалу. Почему нет? Но улыбка тут же и пропала.
— Его Святейшество весьма озабочен происходящим в Саксонии. В такое время нельзя ронять авторитет Церкви. Между тем — «Quamvis monasteria urbis quasi omnia jam facta lupanaria», «все монастыри города давно стали блудными домами» — вот что болтают в университетах и, естественно, повторяют на улицах! — Лоренцо Дориа заметил яростный блеск в глазах его высокопреосвященства и чуть съежился. — Чего стоит и недавний скандал у бенедиктинок, где в пруду обнаружили десяток придушенных младенцев! Проклятые шлюхи даже не догадались упрятать свидетельства своего блуда понадежнее! — продолжал, распаляясь, Сеттильяно. — А провалившийся нос у настоятеля монастыря кармелитов в Перудже? Если золото ржавеет, что с железа возьмешь? — Легат был уже вне себя. — Порадовали и францисканцы! У семи монахов из десяти — метрессы и орущие дети! И не думайте, что ваши не заляпались! Инквизитор Гоццано найден мертвым и где? У шлюх, в блудилище!
Лицо доминиканца окаменело.
— Что удивляться, что этот негодяй из саксонского Вюртенберга мутит воду своими дурацкими тезисами и тычет нам в нос нашими грехами?!
Епископ слушал подчеркнуто внимательно и молчал. Молчал, ибо понимал, с кем говорит, а вовсе не потому, что сказать было нечего — напротив. С тех пор, как Дориа стал сведущ в делах человеческих, он что-то не встречал примеров святости в Риме, — а рыба-то гниет, как известно, не с хвоста! Треклятый Борджа со своим выблядком Чезаре готов был всю страну сделать владением своей мерзкой семейки, не брезговал ни кинжалом, ни ядом, торговал должностями и сборами крестоносной десятины. Негодяй Фарнезе за кардинальскую шапку продал ему родную сестру, а сам живёт и поныне в кровосмесительной связи с другой своей же сестрицей! А будучи папским легатом в Анконе, бежал оттуда из-за обвинений в изнасиловании знатной патрицианки. Не надо забывать и про Пия III, имевшего не меньше дюжины детей от разных метресс! А Юлий II? Как сплетничал его церемониймейстер Грасиас, тот даже в пятницу, на Страстной, не допускал никого до обычного поцелуя туфли: не мог скрыть изъеденную сифилисом ногу! Так ещё и меценатом прослыл, отродье диавольское! Золото ржавеет! Но где оно, золото? Треклятый герцог Джованни ди Медичи, Лев Х, тот вообще нагло заявил: «Я верю в басню о Христе, поскольку она даёт мне возможность хорошо жить». Мерзавец и циник. Ещё и стишки писал, нехристь. Тьфу! И, заметьте, тоже покровитель искусств и, опять же, сифилитик! Может, это как-то связано, а?
Дориа, несмотря на то, что имел в родне даже скульптора, искусства не любил и не болел сифилисом, — и, возможно, поэтому был склонен к яростному ригоризму. Обсуждать же нынешнего Святого Отца после разрушения Рима Провинциал вовсе не мог — его трясло. Но все эти обуревавшие епископа горькие и злые мысли, разумеется, не предназначались для ушей легата, человека хоть и гневливого, но порядочного и преданного Церкви. За это ручался агент самого Дориа в Риме, это же подтвердил незадолго до приезда кардинала и великий магистр ордена. К тому же епископ понимал Сеттильяно: хоть рыба гниет с головы, чистят-то её всегда с хвоста…
Между тем кардинал мрачно продолжал:
— Отлучение Лютера ничего не дало. Глупо было и рассчитывать на это, — пробормотал он чуть тише. — В эти нелёгкие годы Церкви предстоят новые испытания. От доминиканцев Его Святейшество ожидает новых людей, чья святость будет бесспорна и чья честь не уронит достоинство Священного Трибунала.
Стоило Сеттильяно перевести дыхание, епископ подошёл к двери и тихо распорядился:
— Позовите Иеронима. — Епископ повернулся к легату. — Если этот не подойдёт, то, право, не знаю, кто и нужен Его Святейшеству, — Дориа развёл руками.
Тот усмехнулся — презрительно и недоверчиво. «Не подойдет…» Неужто ему покажут святого? Это в эти-то бесовские времена? Через минуту у храмовой колонны из темноты возник монах в длинном чёрном плаще.
— Брат Джерони́мо Империали ди Валенте, по прозвищу Вианданте, генуэзец, в монастыре с семнадцати лет — уже двадцать два года… — Дориа не успел договорить, как поражённый громким именем Сеттильяно жестом прервал его. Легат взял канделарий, медленно приблизился к монаху и откинул с его головы капюшон. В изумлении отпрянул и замер, подняв тёмные, изломанные посередине брови. Нервно сморгнул. Это… это…что?
Густые смоляные волосы стоящего перед ним монаха обрамляли лик возвышенный и одухотворённый. Но высокий мраморный лоб, чеканный нос и тонко очерченные губы терялись в свете необычайно живых, ярко-синих глаз, потаённо мерцавших под мягкими собольими бровями. Что это? Такой красоты в мужчине кардинал не видывал отродясь. Архангелы на храмовых ватиканских росписях и те были поблеклее… Несколько минут Сеттильяно, кусая губы, смотрел на Вианданте, но, разозлившись на себя за невольно проступившее восхищение, кое вовсе не собирался демонстрировать, отрывисто приказал:
— Spogliarsi nudo. Раздеться догола. «А вот мы сейчас поглядим, чего на самом деле стоит этот ангелочек», пронеслась в голове легата изуверская мысль. Он ядовито усмехнулся.
Империали не обнаружил ни замешательства, ни удивления, лишь повернул голову к епископу Лоренцо. Тот торопливо и испуганно кивнул. Монах развязал шейные шнурки, сбросил плащ и белую тунику на пол, методично снял кожаный пояс с чёрным шнурком четок, спокойно переступил через ворох тряпья и предстал перед Сеттильяно совершенно обнажённым, напомнив тому знаменитую флорентинскую статую папского скульптора из Тосканы.
Он не сделал попытки прикрыться и не выказал ни малейшего смущения.
Сеттильяно зло уставился на обнаженного. Увы… сквитаться не удалось. На теле монаха, столь же безупречном, как и лицо, не читалось следов порока. Не было ни пугающих гирлянд блудной сыпи, страшной заразы сифилиса, сгубившей за последнее сорокалетие уже тысячи распутников, ни отпечатков похотливых женских зубов, губ и ногтей, чего неминуемо ожидал увидеть легат. Кардинал внимательно рассматривал мощные плечи, безволосую грудь и детородные органы брата Джеронимо, не веря глазам. От доминиканца веяло чем-то запредельным и, казалось, страшная сила этого прекрасного тела сдерживается только могучим усилием воли.
Сеттильяно невесть отчего странно смирился перед этой красотой, гнев его растаял. Он неосмысленно улыбнулся, даже прикоснувшись пальцами к мраморному плечу Империали.
— In Corpus humanum pars Divini Spiritus mersa… божественный дух, вошедший в человеческое тело… — прошептал изумлённый легат, всё ещё не в силах подавить восторженную улыбку. — Ему сорок? — недоверчиво уточнил Сеттильяно, — я и тридцати не дал бы… — пробормотал он. — Говорите, двадцать два года у вас? — он повернулся к Дориа.
Интонации папского посланника изменились, взгляд смягчился, и Провинциал облегчённо вздохнул, поняв, что бурю пронесло. Он улыбнулся. Его любимец, sbarbatèllo, мальчишка, щенок, становится cane da guàrdia, псом Господним, Domini cane! Дориа поспешно добавил:
— Ему тридцать девять, сорок будет в сентябре. Иероним с отличием окончил школу верхней ступени здесь, в Болонье. Философия, основное богословие, церковная история и право — всё блестяще. Последние годы посвятил себя углублённому изучению богословия. Избирался последовательно элемозинарием, ризничим, наставником новициев. Был лектором, бакалавром, ныне магистр богословия, преподает на нашей кафедре, — глаза епископа сияли: Империали был его гордостью.
Легат театрально возвёл очи горе, словно соглашаясь, что, воистину, несть, видимо, равных сему кедру ливанскому, однако, сомнений не высказал, лишь негромко процитировал:
— «Богословие сообщает душе величайший из даров, соединяя её с Богом неразрушимым союзом, и является наивысшей из восьми степеней духовного созерцания, эсхатологической реальностью будущего века, которая позволяет нам выйти из самих себя в экстатическом восхищении…» Кто это сказал? — обратился он к Империали.