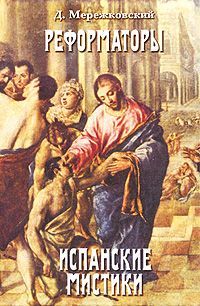Жил у чужих людей, в углу, из милости и, когда тяжело заболел, был так покинут, что некому было подать воды напиться. Только что немного оправился, бежал в Мансфельд, в родительский дом.[109] Сыну обрадовалась мать, а отец, увидев, посмотрел на него молча так, что лучше бы избил до крови. «Эх, сынок, сынок, толку из тебя, видно, не будет, а я-то надеялся!» – прочел он в этом, как будто спокойно-взвешивающем его взгляде отца, и покраснел, побледнел и готов был провалиться сквозь землю или бежать назад в Магдебург. Дома не зажился и рад был, когда, по просьбе матери, отец отправил его в соседний городок Эйзенах, где была тоже знаменитая, подготовительная к университету школа и где доживали свой век дед и бабка его по матери. «Внуку помогут они», – думала мать, но ошиблась: сами они были так бедны, что не могли помочь внуку. Милостыней жить пришлось ему и здесь, в Эйзенахе. Горькую чашу всех человеческих бедствий – нищеты, холода, голода – он испил до дна.[110]
«Может быть, все, что люди называют „судьбою“, „случаем“, управляется каким-то тайным Порядком» – Промыслом Божьим – это знал св. Августин; узнает и вернейший ученик его, Лютер, по опыту всей своей жизни.[111] Начал это узнавать в те черные дни юности своей, когда погибал и был спасен тем, что слепые люди называют «случаем», а видящие – «Промыслом Божьим».
В двух шагах от той школы при церкви Св. Георгия, куда ходил Лютер, жила благородная дама, Урсула, жена итальянского знатного и богатого купца, Конрада Котта. Часто, в церкви и на улице, встречая маленького нищего школьника с чудно живыми и умными глазами на женственно тонком, бледном и недетски печальном лице, эта умная и добрая женщина подавала ему щедрую милостыню, потому что было что-то для нее чарующе милое и жалкое в этом лице, что трогало ее до слез.
Однажды, в темное зимнее утро, когда шел мокрый снег с дождем и люди, злые от скверной погоды, как собак, отгоняли маленького нищего с бранью от всех дверей, он так устал, что хотел было вернуться голодным домой, в темный и сырой чулан, который нанимал за гроши у школьной старухи, но, решив попытать еще счастья в последний раз, постучал в двери дома, где жила Урсула Котт. Дверь отворила седая старушка служанка, с добрым лицом, и впустила его в дом, где сама хозяйка, выйдя к нему и взяв его за руку, ввела в прекрасную богато убранную комнату, усадила поближе к огню очага, велела служанке переменить на нем обувь и платье, накормила, обласкала, расспросила, как он живет, велела приходить каждый день, а через несколько дней приняла его к себе в дом навсегда и полюбила как родного сына. Новая жизнь началась для него: точно вдруг взошедшее над ним солнце осветило его и согрело.[112]
Кем будет для мира этот голодный и презренный маленький нищий, Мартин Лютер, угадала раньше всех людей в мире умная и добрая женщина, Урсула Котт.
Как Ветхий Завет относится к Новому – Закон к Благодати, – ответом на этот вопрос будет весь религиозный опыт Лютера. Что такое Закон, узнал он по горькому опыту детства, а что такое Благодать – по сладостному опыту юности. «Сладостней женской любви нет ничего на земле!» – в этих, нашептанных пятнадцатилетнему мальчику уже немолодою, но еще прекрасною женщиной, простых и глубоких словах было, может быть, предчувствие уже и чего-то иного, чем только любовь матери к нему, как в благоухании цветущих лоз есть уже предчувствие вина.[113]
Закону научил его отец, а Благодати – та, кто сделалась его второю матерью и, может быть, первою, не в плоти и крови, а в духе, возлюбленной:
Здесь небывалому
Сказано: «Будь!»
Вечная женственность —
К этому путь, —
скажет Гёте; этого не мог бы сказать, но чувствовать мог человек к нему ближайший и противоположнейший – Лютер.
В следующие три-четыре года, может быть самые счастливые в жизни его, он так там возмужал и окреп духом и телом, что трудно было узнать в этом цветущем юноше прежнего худенького и бледного, как будто тяжелобольного, мальчика. Точно увядавшее в тени комнатное растение вынесли под открытое небо, на солнце, и оно зазеленело вдруг новою яркою зеленью. В школе делал он такие успехи, что учителя говорили не совсем шутя: «Скоро нам самим надо будет у него учиться».[114]
В 1500 году, когда минуло ему семнадцать лет, покинул он Эйзенах, «свой милый город (meine Liebe Stadt), как будет его всегда называть, и еще более милый дом Урсулы Котт, нареченной матери своей, чтобы поступить в Эрфуртский университет, лучший тогда в Германии. Здесь, продолжая делать такие же быстрые успехи, как в Эйзенахской школе, получил в 1502 году первую ученую степень – бакалавра, а через три года – магистра философии. Доктор Иодок Труттветтер (Jodocus Truttvetter), знаменитый логик и диалектик, сочинивший огромную „Сумму естественной философии“, предсказывал ему великую будущность.[115]
Добрая молва о сыне дошла и до Ганса Лютера, и понял он, как был несправедлив к сыну в своем приговоре над ним, после бегства его из Марбургской школы: «Толку из него не будет!» «Нет, будет толк и, может быть, даже больший, чем я надеялся», – решил он и с этого дня начал говорить ему не «ты», а «вы» и называть его не просто Мартином, а «господином Магистром» и «господином Доктором», когда он получил эту высшую степень. Начал также высылать ему пособие, потому что к этому времени уже поправил дела свои так, что мог это делать.[116]
Каждому молодому человеку в те дни надо было, вступая в жизнь, выбрать один из двух путей – светский или церковный. Юный магистр Лютер выбора еще не сделал, но отец уже сделал за него. Веря, что святейший для человека закон и высшее достоинство – труд, от всей души презирал он попов и монахов как «дармоедов» и «бездельников». Вот почему выбрал он для сына путь мирской, мечтая сделать из него ученого законоведа и надеясь, что эта наука приведет его лучше всех других к тем высоким государственным должностям, на которых он заслужит почет и богатство, а может быть, и прославит имя Лютеров. С этой надеждой подарил он ему великолепный «Свод законов», Corpus Juris, стоивший так дорого, что потраченных на него денег хватило бы, чтобы избавить сына на несколько месяцев от той нищеты, от которой он едва не погиб в детстве.[117]
Лютер, покоряясь воле отца, посвятил себя законоведению, но эта наука была ему не по душе, потому что говорила не о вечных и мудрых законах естественных и божеских, а лишь о временных измышлениях человеческих, слишком часто порочных, глупых и злых. Вот почему он больше любил философию и в темнейшие глубины метафизики нисходил в поисках истины так же смело, как отец его, рудокоп, спускался в глубокие колодцы шахты в поисках драгоценной руды.
В эти дни был он или казался похожим на всех своих университетских товарищей, веселым и любезным молодым человеком, любящим не только тишину рабочей кельи с грудами пыльных книг, но и пенье, музыку, пляску, и пенящееся в глиняных кружках пиво, и золотистое в граненых стаканах вино в эрфуртских погребах, подобных тому ауэрбахскому в Лейпциге, где бродячий школяр в огненно-красном плаще, черном берете с петушиным пером и лошадиным копытом в остром башмаке выцеживал из просверленного буравчиком дубового стола пьянейшие вина, чтобы позабавить доктора Фауста.
Но как омрачает безоблачно ясное небо зловещая тень перед затмением солнца, так омрачало веселую молодость Лютера нечто подобное припадкам душевной болезни, сначала легким и кратким, а потом все более тяжким и длительным.
Все шло как будто хорошо и счастливо, но вдруг овладевало им такое беспокойство, как будто он сделал что-то очень дурное, но забыл что, хотел вспомнить и не мог. Или еще бывало так, что маленькие, светлые мысли проходили по самой поверхности души, а под ними двигались большие, темные, как под солнечной рябью глубокой воды, морские чудовища. Или как у человека с больным сердцем, бьется оно все быстрее, быстрее и вдруг останавливается, так и у него вдруг останавливалась жизнь.
Жаждущему снится, что он пьет, но, проснувшись, он чувствует еще сильнейшую жажду – так и он не находил в науке того, чего искал, – первой и последней, все загадки жизни разрешающей истины:
Ах! всю философию,
Юриспруденцию и медицину,
И, увы, теологию тоже
Я изучил, с пламенным рвением;
Но как был дураком, так и остался…
Вот что сжигает мне сердце огнем! —
мог бы сказать и доктор Лютер, как доктор Фауст.
Роясь однажды в старых книгах монастырской библиотеки в Эрфурте, нашел он огромную, в кожаном, изъеденном червями, переплете пахнувшую мышами и плесенью, видимо, лет сто никем не читанную книгу, почти никому не известный, потому что запрещенный Церковью, полный латинский перевод Св. Писания.[118] «Лет до двадцати я и в глаза не видел его, а когда, наконец, увидел… то прочел с великим удивлением», – вспоминает Лютер.[119] Начал удивлением, кончил ужасом. «Почему в Адаме мы все осуждены, но не все спасены во Христе?»[120] «Если, как учит св. Августин, одна лишь десятая часть человечества спасется, а девять десятых погибнет» и «если Бог еще до создания мира не только знал, что это будет, но и хотел, чтобы это было, то что значит „благость Божия“?[121]