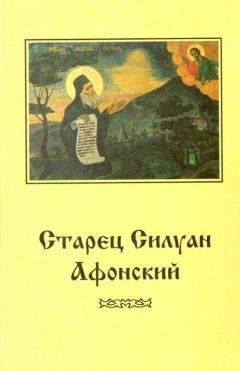Помня сама и напоминая сыну это, им забытое и самое для него нужное, делает ему и мать, так же как отец, добро величайшее. Если лучшего отца для св. Франциска нельзя себе и представить, то и лучшей матери — тоже.
V
Знали все молодые повесы и гуляки, веселые гости Франциска, что на него иногда «находит». Весело болтает, шутит, смеется и вдруг умолкает на полуслове, точно теряет сознание, куда-то уходит, — «отсутствует»; пристально смотрит широко открытыми глазами в одну точку и ничего не видит, не слышит, не чувствует, как человек в столбняке или лунатик; а когда приходит в себя, то не любит, чтоб его об этом спрашивали.[85] Может быть, в такие минуты «отсутствия» хочет и не может вспомнить самое для него нужное, забытое; всем известный, «маленький французик» — Франциск — хочет вспомнить великого «Иоанна», никому не известного; тот, кто есть, хочет вспомнить того, кто был и будет.
И это происходит с ним не только в сумерках тех полубеспамятств, как бы вещих снов, но и наяву, при полном свете сознания, в таких мелочах, как эта, тем более правдоподобная, что действительный смысл ее самой легенде уже непонятен: «Суетен был в роскоши так, что сшивал иногда в одной одежде две ткани, — самую роскошную, шелковую, мягкую, яркого цвета, с самою грубою, темною, бедною, нищею», наподобие рогожи или дерюги.[86] Сам, вероятно, не знает, зачем это делает; но если бы его спросили об этом, то, может быть, ответил бы: «Так еще роскошнее!»
Это как будто пустяки, «суета», а на самом деле очень для него значительно; в этом «противоположном согласии» двух тканей — «шелка и дерюги», — весь Франциск тех дней: забывший и вспоминающий; прямостоящий и наклоняющийся, чтобы «перевернуться», «опрокинуться», «стать вниз головой» и сделать так, чтобы все было для него «наоборот»; «маленький французик» — «Франциск», памятный всем, и всеми забытый «Иоанн».
VI
Милостыню подает так щедро (в этом уже не шутовской, а настоящий «король»), что нищие думают иногда, что он пьян или сошел с ума. А если мало при нем денег, то прибавляет к ним часть платья; встретив однажды, на большой дороге, очень бедного, полуголого рыцаря, отдал ему свою богатую, с драгоценным шитьем, одежду.[87] А в другой раз, может быть, стоя за прилавком и торгуясь с прекрасными дамами, занят был этим так, что отказал просившему с улицы нищему и, когда потом вспомнил об этом, то сгорел от стыда, как будто вдруг понял, что он — только ряженный в рыцари купчик, смерд в вельможестве, ворона в павлиных перьях.
Почему так было стыдно, не мог тогда понять — вспомнить, — понял потом, когда уже совсем «перевернулся», «опрокинулся»: «Стыдно отказывать в малом просящему от имени Великого Царя».[88] Но тогда еще вовсе не думал об этом, или ум его не знал о том, что думает сердце, и если бы ему сказали, что он делает «добро», отдавая деньги нищим, то он, вероятно, почувствовал бы такую же скуку, как если бы сказали ему, что он делает «зло», кидая деньги на ветер, в своих безумных пиршествах. Нищим отдавал все, что было при нем в ту минуту, не потому, что это было «добром» и что так нужно делать, а потому, что он не мог этого не делать, а главное, потому, что это было «весело». Может быть, в такие минуты понимал — вспоминал, что веселее, «блаженнее давать, чем брать»; лишаться того, что имеешь, блаженнее, чем приобретать: как будто учился новому «веселому знанию», gaya scienza; влюблялся по-новому в Прекрасную Даму; еще лица Ее не знал, но уже помнил, что первым и единственным рыцарем Ее будет он.
VII
Будучи однажды в Риме, может быть, по торговым делам отца, долго наблюдал, как толпившиеся на паперти св. Петра нищие просили милостыню. — «О, если бы это и мне хоть раз испытать!» — подумал вдруг с такою завистью, с какою в жаркий летний день человек, стоящий на берегу, смотрит на купающихся в студеной воде, и с таким любопытством, с каким стоящий на самом краю пропасти и чувствующий ее притяжение заглядывает в пропасть.
А так как путь от мысли к делу у него всегда был краток, — только что подумал, — сделал: отвел одного из нищих в такое место, где никто не мог их видеть; скинул свое богатое платье и отдал ему, а сам надел его лохмотья; вернулся на паперть, стал с нищими в ряд и, протянув руку, сказал, не на родном итальянском, будничном, а на чужом, провансальском, праздничном языке «веселого знания», gaya scienza:
— Подайте ради Христа!
И первый поданный грош сладостно обжег ему руку, как первый поцелуй обжигает уста.
Когда же, набрав достаточно грошей, чтобы купить себе хлеба, отведал его, то впервые понял — вспомнил, что значит: хлеб ангельский ел человек (Пс. 77, 25).
Но утром на следующий день чего-то вдруг испугался или застыдился; купил себе платье, богаче прежнего, и, вернувшись в Ассизи, зажил по-старому: днем приказчик в лавке отца, а ночью вельможа в пиру.[89]
Но опыт сделал недаром: узнал, что если будет слишком жарко, то может окунуться в студеную воду; и если кинется в пропасть, то не упадет, а полетит, как птица на крыльях.
VIII
В 1202 году, во время войны Ассизи с Перуджией, двадцатилетний Франциск, сражавшийся с рыцарской доблестью в первых рядах войска, взят был в плен и посажен в тюрьму, где просидел целый год. Но между тем, как все остальные заключенные с ним, пленники сетовали горько на судьбу свою и унывали, он один веселился, напевая все одну и ту же песенку:
Жду себе такого счастья,
Что и горе в счастье мне![90]
А когда спрашивали его остальные унывавшие с досадой: «Чему ты веселишься, дурак?» — отвечал всегда одно и то же: «Тому, что тело мое в цепях, а душа на свободе».
Все, наконец, решили, что он «не в своем уме» или в самом деле «дурак», и, слушая песенку его, только отплевывались: «Что возьмешь с дурака!»[91]
Вернувшись из плена в Ассизи, зажил опять по-старому, так же как тогда, вернувшись из Рима. Но смутное воспоминание о том, что было и будет, — яснело в душе его, как в темной, с закрытыми ставнями, комнате рассветающий день.
IX
С детства, наслушавшись провансальских песен и сказок о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, о Роланде и Карле Великом, мечтал он о таких же, и для себя, рыцарских подвигах.
«Буду велик, — говорил иногда, подвыпивши, друзьям своим, на пирах, — буду велик, больше Артура, больше Роланда, больше Карла Великого, и Александра, и Цезаря, — больше всех людей на земле!»[92]
И вдруг умолкал, вспоминая, может быть, с ужасом пророчество матери, монны Пики Простейшей: «сыном Божьим будет мой сын!»
«Будет велик», а пока — только ряженый в рыцари, купчик, мещанин в вельможестве, — ворона в павлиньих перьях. Не был, однако, таким «дураком», каким его считали многие, чтобы не чувствовать своего ничтожества и этим не мучиться: вот почему, может быть, так и старался пустить пыль в глаза. Но сделать это было не так-то легко, при его наружности: маленький, худенький, с изможденным смуглым лицом, с оттопыренными ушами и черной, редкой, клином, бородкой, — самого невзрачного вида человек: «так себе, кое-какой мещанишка» — вот первое от него впечатление всех, кто его не знает и взглядывает на него мимоходом, издали. Но для тех, кто его узнает, все вдруг меняется в нем, как будто они его никогда раньше не видели: такая печать благородства, как бы царственной крови знак, — в каждой черте тонкого лица, в узкой и длинной, с длинными тонкими пальцами, женственно прекрасной руке и, особенно, в чудесных и страшных, непонятных глазах — темно-коричневым огнем горящих, прозрачных углях, — то с невыносимо тяжелым, то с чарующим взором, и в тихой улыбке, и в быстрых движениях, таких стремительных, что казалось, не ходит, а летает, порхает, как птица; легкий-легкий весь, как пламя, как дух.[93]
X
Пропировав однажды всю ночь, до света, шли гости Франциска веселой толпой, оглашая пустынные улицы городка Ассизи пьяными песнями. Шел с ними и «король» их, в шелковом, пестром, скоморошьем платье, с шутовской, из золотой фольги, короной на голове и с таким же скипетром в руке. Все, кроме него, были пьяны, так что не заметили, как он потихоньку отстал, и ушли далеко вперед. А он, оставшись один на пустынной улице, вдруг остановился, как вкопанный, с таким неподвижным лицом, как у человека в столбняке или лунатика. «Кажется, в эту минуту, жги меня, режь, — я бы ничего не почувствовал», — вспоминал он потом.[94]
Пристально, широко открытыми глазами глядя на утреннюю в светлеющем небе звезду, переливавшуюся, как исполинский алмаз, тремя цветами, — голубым, зеленым и розовым, — испытывал он такое блаженство, что умирал в нем, как утренняя звезда, в лучах восходящего солнца. Но долго не мог понять — вспомнить, отчего это блаженство; вдруг вспомнил: оттого, что тремя цветами играет звезда. Понял — вспомнил все, и сердце его пронзило, как молния, число божественное: Три.