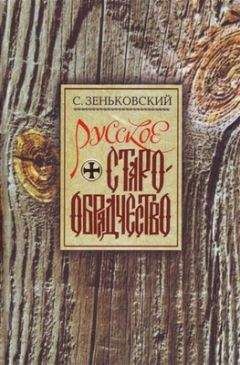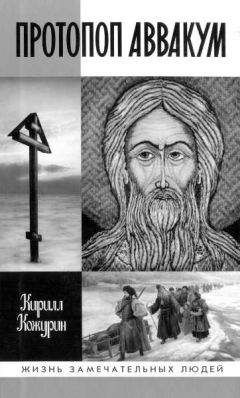С начала реформации некоторые протестантские деятели, в том числе Меланхтон, Яков Андреа и Мартин Крузий, пытались добиться соединения с православной церковью. Письмо константинопольского патриарха Иеремии, от 6 июня 1581 года, посланное богословам тюбингенского университета, сильно подорвало эти надежды, так как патриарх заявил, что при существующих разногласиях, соединение протестантов и Восточной Церкви невозможно[9]. Тем не менее, встречи протестантов и православных продолжались и в Польско–Литовском государстве и на Ближнем Востоке и даже в России, куда для пропаганды своих идей, еще в 1570 году приезжал проповедник Рокита. В Литве православно–протестантские соборы имели место в Торуне и Вильно, в 1595 и 1599 годах[10]. В самом начале семнадцатого века, как протестанты, так и католики сделали несколько настоятельных попыток перевести в свою веру константинопольского патриарха, что частично и увенчалось успехом. Со своей стороны патриарх Кирилл Лукарис искренне высказывался за соглашение с протестантами. Будучи еще до своего посвящения в патриархи ректором православной школы в Вильно, он был в Литве одним из главных сторонников борьбы с католиками и союза с протестантами на соборах 1595–1599 годов[11]. Сделавшись в 1612 году патриархом, он сблизился с константинопольскими кальвинистами из голландской дипломатической миссии. В столице Турции образовалось две яростных партии, субсидированных иностранными посольствами. Габсбургский посол Р. Шмидт, стоявший во главе католических сил и голландский консул Корнелий Хага, возглавлявший кальвинистов, не жалели денег, чтобы подкупить турок и с их помощью поставить на престол патриарха желаемого ими кандидата. Разгорелась упорная и жестокая борьба, стоившая жизни, по крайней мере, двум патриархам. Кирилл Лукарис за годы — с 1612–1638 — был семь раз свергнут и заменен другими патриархами. Его главный противник — прокатолический патриарх Кирилл Контарис из Береа за годы — 1633–1639 — был свергнут три раза. Всего же, за годы — 1595–1657 — в Константинополе было более сорока перемен на патриаршем престоле, вызванных исключительно религиозной борьбой и личными интригами[12]. Но главный скандал разгорелся, когда, в 1628 году, вышел катехизис Лукариса, в котором он излагал свои взгляды на веру в строгом кальвинистском духе. Катехизис Лукариса произвел на Западе впечатление бомбы и стал «бест селлером» на несколько лет, выдержав много латинских, голландских, французских и английских изданий. Дурхэмский епископ Мортон даже обратился с призывом к лютеранам, советуя им, «по примеру православного патриарха», присоединиться к кальвинизму[13]. Сам Лукарис косвенно отрицал свое авторство в этом катехизисе и писал в 1635 году в Вильно: «знайте, что мы верно придерживаемся догмы восточной православной церкви, нашей матери»[14].
Все же, до сих пор трудно понять, как он сам понимал православное учение. Его автограф катехизиса и личные письма свидетельствуют, что он придерживался скорее кальвинистских, чем православных взглядов[15].
В конце концов, под влиянием католиков и недовольных им православных, турки сослали и позже удушили Лукариса. На престол вступил Кирилл Контарис из Береа, незадолго до этого давший обещание цесарскому послу перейти в католичество. Действительно, 15 декабря 1638 года, он тайно перешел в римскую веру, но эта тайна скоро раскрылась и демонстрации греков заставили его в 1639 году уйти от власти. По дороге в Рим он остановился в Тунисе, где и погиб, отказавшись принять предложение бея перейти в мусульманство.
Кирилл Контарис из Береа не был первым константинопольским патриархом, который после Флорентийской унии пытался сблизить Восточную церковь с Римской. Уже в 1612 году патриарх Неофитос склонялся к унии с Римом и пригласил в Константинополь о. Кандиллака, — главу иезуитов Турции. А в 1634 году патриарх Пантелларис даже отправился с визитом к папе, хотя последний так и не принял его, не зная, какие церемонии подобает завести для приема главы Восточной Церкви[16].
II. Начало новой проповеди
4. Дионисий и традиция св. Иоанна Златоуста
Хотя Московская Русь вышла из навязанного ей участия в религиозной распре католическо–протестантской Европы более благополучно, чем православный Восток и русское население Польско–Литовского государства, тем не менее эта победа над иностранцами и Смутой не привела к духовному оздоровлению народа и русской церкви. Энтузиазм и пафос 1611—1613 годов не передался правительству, пришедшему к власти после избрания царя и взявшему бразды правления из рук вождей национального сопротивления. Это было и не удивительно, так как большинство вождей и идеологов народного ополчения, взявшего Москву и подготовившего избрание нового царя, очень скоро осталось совсем не у дел. Вожди ополчения и их духовные вдохновители, как, например, Козьма Минин, князь Пожарский и архимандрит Дионисий, были новыми и неискушенными в политике людьми, мало искусными в деле управления и интригах, и поэтому не прошло и нескольких лет, как они были не только совершенно отстранены от власти, но и почти забыты своими мало благодарными современниками. Вместо них престол окружили профессиональные политики и интриганы, придворные, бояре, дьяки московских приказов, представители высшего московского дворянства, ловкие иерархи церкви и, конечно, близкие родственники молодого царя Михаила Романова. Они снова взяли в свои руки высшие командные посты в измученном Смутой Московском государстве, и, как и раньше, думали главным образом о своих эгоистических интересах.
Призывы не забывать о христианском долге и заветах церкви, бояться гнева Божьего и выполнять обязанности православного сохранились лишь в хрониках и документах, да и в сердцах русских людей, по преимуществу из числа тех, кто стоял очень далеко от власти. Архимандрит Дионисий, видимо, хорошо понимавший человеческую психологию, уже больше не призывал страну ни к жертвенности, ни к христианскому покаянию. Отодвинутый и отошедший от участия в государственных делах, он сосредоточился теперь на управлении лаврой и книжной работе. Он много читал и особенно внимательно изучал своих любимых писателей — святого Иоанна Златоуста и Максима Грека. Уже в годы Смуты в призывах и делах Дионисия, несомненно, сказалось влияние вдохновенных трудов крупнейшего из византийских проповедников — святого Иоанна, обличавшего безнравственность и стяжательство. Иоанн Златоуст всегда был самым популярным писателем в Древней Руси, и его сочинения постоянно переводились на русский язык со времени введения христианства. Сотни переводов его проповедей и других его сочинений сохранились до сих пор в бесчисленных древнерусских манускриптах, и не было ни одного мыслителя или писателя в допетровской России, который бы не был знаком или не подпал бы под влияние великого антиохийца. Дионисию он был особенно близок, так как Троице–Сергиевский архимандрит так же, как и сам Златоуст, прежде всего мечтал о создании подлинно христианского общества, боролся за высокую нравственность мирян и духовенства и высоко ставил те чувства христианского сострадания и солидарности, которые теперь можно было бы назвать христианской социальностью. Годы Смуты еще более усилили интерес Дионисия к творениям Златоуста, и в своем монастыре он ввел регулярное чтение его писаний во время молитвенных собраний и трапез братии. Интерес к великому антиохийцу и его духовному и социальному учению, видимо, вызвал интерес Дионисия и к произведениям Максима Грека, который провел свои последние годы в лавре, где и умер.
Грек по рождению, приехавший в Россию почти что за сто лет до Смутного времени, Максим был в годы своей юности свидетелем Ренессанса и начала предреформационных событий в Италии. В России же, где он скончался в середине XVI века, он прославился как самый крупный богослов и мыслитель своей новой родины[1].
Общая любовь к Иоанну Златоусту, многие творения которого были переведены на русский язык Максимом, несомненно, сближала Дионисия с этим выдающимся греческо–русским ученым и писателем[2]. Также близок должен был быть Дионисию и смелый голос обличений Максима, его неустанная защита бедных и несчастных, его осуждения сребролюбия и жадности, его призывы к защите православия[3]. Во многих выступлениях Дионисия, в его бескомпромиссном подходе к вопросу морали, христианской ответственности и обороне церкви слышится как голос самого Максима Грека, так и его знаменитого духовного учителя, флорентийского обличителя Савонаролы. Максим начал свою духовную карьеру в том же монастыре, в котором жил и проповедовал Иероним Савонарола — всего лишь через несколько лет после смерти последнего, — и в течение всей своей жизни он был предан памяти пламенного флорентийца[4]. В написанной им уже в России “Истории страшной” Максим яркими и сочувственными словами описывает жизнь, проповедь и смерть этого проповедника христианского аскетизма, резкого противника безбожия и секуляризации эпохи языческого Ренессанса, неутомимого обличителя морального разложения церковной иерархии. Смерть Савонаролы на костре в результате его обличения злоупотреблений римской церковной иерархии того времени могла только возбудить к нему симпатии Дионисия и тех русских, которые сами пострадали от католической интервенции и папских стремлений навязать латинскую веру России в самые трудные годы Смуты. Бесстрашие в борьбе за веру и мученическая кончина флорентийского монаха, его стремление поднять дисциплину духовенства, его желание морально очистить свою паству и всю церковь от соблазна должны были казаться как Дионисию, так и другим читателям “Истории страшной” достойным примером в их собственных усилиях за духовное возрождение народа[5]. Ведь по своим настроениям Савонарола был гораздо ближе к Максиму Греку и Дионисию, чем к зараженной духом секуляризирующего Ренессанса католической мысли начала XVI века. Но, несмотря на свои искренние увлечения Иоанном Златоустом и Максимом Греком, Дионисий не смог уже найти ни сил, ни подходящих обстоятельств для возобновления своей проповеди христианского возрождения страны, как это сделали Иоанн Златоуст и Савонарола. Конечно, этому больше всего помешал арест и тюремное заключение самого престарелого архимандрита в 1618—1619 годах, когда он был обвинен в злоумышленном искажении богослужебных книг, проверка которых была ему поручена царем и церковной властью. Сотоварищи Дионисия по церковной иерархии и представители епископата, забывшие заслуги архимандрита в годы Смуты, и, вероятно, раздраженные его мягкостью с людьми, его душевной красотой и стойкостью в делах веры, обвинили его в еретическом обращении с богослужебными молитвенными текстами. Дионисий был отдан под церковный суд и приговорен к заключению, в котором он находился в исключительно тяжелых условиях. Он был выпущен на свободу только в 1619 году, когда за него заступился вернувшийся из польского плена отец царя Михаила митрополит Филарет, вскоре ставший патриархом[6]. Но если Дионисию не судьба была стать реформатором русской церкви и начать проповедь церковного возрождения, то зато она дала ему достойного ученика, который нашел в себе достаточно сил и смелости, чтобы взяться за это трудное дело. Этим учеником, которому Дионисий показал путь, намеченный ранее Иоанном Златоустом, оказался молодой вологодский уроженец, который, бежав от собственных врагов и преследователей, нашел приют в Троице–Сергиевой лавре. Иван Неронов, как звали этого молодого вологодца, вскоре начал самое большое в русской истории религиозное движение. Результаты этого движения, построенного на учении Иоанна Златоуста и Максима Грека, а также на примере самого Дионисия и, может быть, Иеронима Савонаролы, сказались на всем дальнейшем развитии русской истории.