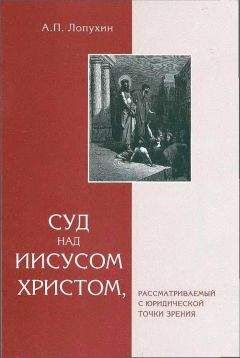Людьми овладело то нравственное утомление и пресыщение жизнью, которое продолжалось во все время империи и которое часто переходило в смертельную апатию или безотчетное отчаяние. Такое безотрадное нравственное настроение господствующего племени явилось неизбежным результатом новых обстоятельств, в которые оно было брошено судьбою. В прежние дни римлянин верил в самого себя, в своих богов, в свои учреждения и более всего в свое государство. Оно было для него theatrum satis magnum (достаточно великим зрелищем), его знаменем, его законом, его правдой. Он был справедлив, хотя суровым, неумолимым образом. Но теперь мир вырос в ширину. И то, что было достаточно для добродетели в прежние времена, сделалось недостаточным для добродетели теперь. Вера области, религия племени сделалась слишком узкой для мира; она необходимо пала и оставила владык земли с сильными руками и пустыми сердцами, скептиками в отношении к истине и потому отпадающими от правды закона.
Что таково было положение вещей уже в царствование Тиверия, это признано историками. И понятно, что оно было очень неблагоприятно для усвоения начал высшего нравственного и социального порядка, внесенных христианством. Было бы довольно несправедливо и жестоко требовать, чтобы Пилат, или Плиний, или какой-нибудь римский сановник отрекся от высшего порядка нравственности, одобряемого его совестью, просто потому, что его государство веровало в низший. Но было бы еще более жестоко требовать, чтобы такой сановник отрекся от этой высшей нравственности или религии после того, как он и его государство перестали веровать в низший род их. И величайшим несчастием при таких обстоятельствах была бы для судьи его обязанность воздвигнуть систематическое гонение на убеждения, заведомо высшие, просто для того, чтобы подавить в зародыше всякое восстание против узаконенного исповедания веры, в котором начали сомневаться он и все люди. Вероятно, ничто не возбуждает в человеческом духе такого омерзения, как государство, воздвигающее преследование за веру, которую само оно начало уже утрачивать. И, однако, такие явления всего вероятнее могли случаться и случались в это время.
Разбирая вопрос о том, «прав ли был Пилат, когда распял Христа», мы исключим все обстоятельства, отягчающие в настоящем случае его вину. Предположим, что Пилат и римляне его времени еще веровали в древнюю религию Рима, что Иисус был по рождению подданным этого города и что закон этого города требовал преследования всех религиозных убеждений, враждебных его древней вере. Что в таких обстоятельствах было «обязанностью человека, находившегося в положении Пилата»? Мы отвечаем, что он был обязан (приняв сперва меры к сохранению спокойствия в своей провинции) скорее отказаться от повиновения закону и оставить свое служебное положение, чем нарушить принцип совести, который имеет более глубокое основание, чем социальные надстройки, сделанные государством. Но это приводит нас к последнему вопросу о том, чего требовал закон Рима в деле, подобном суду над Иисусом Христом.
Пределы трактата заставляют нас дать лишь один ответ на этот вопрос и не делать указаний на источники. Известно, что политика Рима, как завоевательной державы, в отношении к религиям покоренных государств была политикой терпимости. Но под ней должно разуметь немного разве более того, что существующие религии терпелись в местах их господства. Из того, что поклонение Серапису или Изиде было терпимо на Ниле точно так же, как монотеистическое богопочтение в Иудее, нисколько не следует, что которое-либо из них было дозволенной религией (religio licita) на берегах Тибра. Даже если бы такая религия допускалась на Тибре, то исключительная преданность ей была терпима только в уроженцах страны, из которой она происходила, и не была никогда дозволена римским гражданам. Для всех их на всем пространстве мира древняя римская религия была обязательна, а для остальных народов религия Тибра была хотя необязательной, но господствующей. Уступки, сделанные областям в отношении к их религиям, были, в строгом смысле, уступками, а не конкордатами. Согласно с этим такая уступка ограничивалась правилом: cujus regio, ejus religio (чья страна, того и религия). Местный культ вне той страны или провинции, где он господствовал, не имел прав на публичность и на приобретение новых последователей и был обречен на пассивное и частное существование. Этими общими замечаниями объясняются некоторые разности в отношениях Рима к иудейской и христианской верам. Древняя иудейская религия имела то парадоксальное свойство, что, с одной стороны, была религией национальной, или местной, а с другой — предъявляла право быть исключительно истинной религией. Соединением этих двух качеств объясняется то обстоятельство, что римляне с полным убеждением приписывали ей враждебность к человеческому роду. Это недоразумение естественно навлекала на себя вера, которая признавала ложными верования всех других людей, но не призывала их к участию в своих дарах. Но самый недостаток наступательности в иудаизме спасал его от столкновений. Когда явилось христианство, то Риму пришлось иметь дело с совсем иной задачей. Христианство не только заявляло право на исключительную истинность, но еще возрастало против всякого ограничения себя какими бы то ни было пределами. По своему существу оно являлось наступательным, везде ища себе последователей; оно требовало, чтобы его приняли все люди — приняли римляне и греки, варвары и иудеи. Какой же был результат? В существе дела римляне относились к христианству как к преступлению, но действовали при этом урывками, непоследовательно. Его преследовали вообще как форму безбожия. Такое случайное преследование не основывалось на каких-нибудь особенностях в природе христианства и не возбуждалось каким-нибудь сильным отвращением к нему, как к форме богопочтения или веры. Христианство подвергалось преследованиям вообще как форма безбожия или противодействия господствующим религиозным учреждениям. И противодействие ему на этом основании предписывалось и производилось некоторыми величайшими и мудрейшими и даже, в известном смысле, отличавшимися наибольшей терпимостью императорами. Траян и Антонины были мудрыми и великодушными монархами. Не многое в христианстве могло отталкивать, напротив, многое в нем могло привлекать таких людей. Они не были суеверами, а лица, окружавшие их, были вообще скептиками. Они не веровали в безусловную или всеобщую истину в предметах религии; зато веровали в верховную власть над миром и в мировое первенство римского государства. Вследствие этого они, покровительствуя в Египте, Палестине и Италии всем дозволенным религиям (religiones licitae), оказывавшимся способными жить в мире друг с другом и не заявлять притязаний на всеобщее господство, в то же время напрягли всю силу государства против одной религии, которая говорила, что люди рождаются в мире, чтобы свидетельствовать об истине, и что всякий, кто от истины, слушает гласа Христова [131]. Нет возможности объяснить эту историю иначе, как признав, что основной закон Рима предоставлял государству право, с одной стороны, утверждать и позволять, а с другой — подавлять и запрещать выражение новых религиозных убеждений, публичное существование новой веры. И это право признавалось существенной частью majestatis, или верховной власти государства.
Так было во дни Тиверия, так и во время домицианова юридического террора (terreur juridique). Пилат, как наместник Тиверия, был, кажется, убежден, что заявление Иисуса о том, что Он есть «Христос–Царь», не заключало в себе притязания на временное верховное владычество. Ему прямо и определенно Подсудимый сказал, что Его царство не от мира сего [132]. Но это уверение по меньшей мере значило, что Его царство будет религией, которую Он предпринял основать. Оно значило более. Религия, которая представляется в форме царства с царем и его «не подвизающимися» [133] за Него слугами, как бы ни мало она была «от мира сего», имеет быть не только религией, но и церковью. Всеобщая религия, требующая, прежде всего, личной веры, но прибавляющая к ней непосредственно обязательство исповедовать и распространять эту веру, составляет уже (даже по протестантскому понятию) церковь, т. е. союз веры. Защита Иисуса уже выставляла на вид этот пункт с такой же силой, с какой потом указывали на него ученики Его в первые века христианства. На него указывали, — по крайней мере, его постоянно имели в виду, — гонители христиан, обвиняя последних в государственной измене. Ренан, быть может, зашел слишком далеко, когда утверждал, что римские законы против недозволенных союзов или товариществ были несчастным корнем всех гонений [134]. Он пошел даже еще дальше, когда старался доказать, что эти законы были единственным орудием, посредством которого эти гонения воздвигались и юридически оправдывались. На самом деле они были скорее ветвями, чем корнем. Несомненен тот факт, что законы, определявшие деятельность сообществ (collegia) и подавлявшие все недозволенные сообщества, с самого возникновения своего имели тесную связь с величеством (majestas) государства и, в частности, с правом его устанавливать и поддерживать религию. Эти два закона находились в теснейшей связи и в теории, и на практике. Стремление Иисуса основать только всеобщую религию могло, без сомнения, прийти на практике в столкновение с указанным законом Рима о сообществах. Но Его стремление основать эту религию в виде царства, хотя и не от мира сего, — основать «союз в государстве, находящийся вне государства», как выражается Ренан, являлось по своему существу несовместимым с основной идеей закона о сообществах. Словом сказать, христианство было несовместимо с римским законом, и не только потому, что содержание его было отлично от содержания древней религии Рима, но и потому, что требование христианства, чтобы его приняли и публично исповедовали все люди, приводило его в столкновение с неограниченной и не терпевшей никакого противоречия себе верховной властью римского государства. В этих самых пунктах указанный закон входил в столкновение и с Основателем христианства. Из этого, конечно, не следует, что Пилат, как исполнитель римского закона (если предположить, что он понимал существование этого религиозного столкновения точно так же, как понимал несуществование здесь какого-нибудь гражданского заговора), был обязан осудить Иисуса. Высший сановник, как объясняет Траян в своем знаменитом послании к правителю Вифинии, был обязан руководствоваться своей собственной рассудительностью, когда имел дело с людьми, нарушавшими закон о религии. Пилат, по-видимому, искренно верил, что Иисус был и прав и не опасен; но, веря в это, он погрешил тем, что отступился от своего первого приговора и предал кровь неповинную. Но когда он в конце концов послал Его на крест, то сделал это на том основании, что Иисус объявил себя Царем, и на основании первоначального обвинения в том, что Христос действовал против величества римского народа (adversus majestatem populi romani). Что бы ни думал римский судья, заявление, сделанное Христом об Его праве, было несовместимо с привилегиями того государства, представителем которого был Пилат.