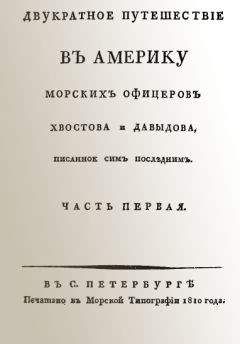Салимбене дальше Франции не странствовал и англичане, которых он там повстречал, своим загадочным «ge bi a vo» (je bois a vous) свидетельствовали в сущности лишь о своем желании объясняться по–французски; но предвзятость, которую он в этом случае проявил, не всегда удается излечить даже и продолжительным пребыванием в самой Англии. Если же она и проходит, то обычно не без следа, а уступая место другой болезни: точно так же, как за сыпным тифом почти по необходимости следует возвратный, представление об англичанине–истукане заменяется образом англичанина–чудака. Образ этот внушает континентальному читателю даже и, по своему истолкованная им, английская литература, высокую человечность которой, очевидную для всякого, ни с каким истуканством примирить нельзя. Величайшую, быть может, из литератур нового времени склонен оценивать он, как собрание книг, написанных чудаками о чудаках, как литературу потомственных оригиналов. Даже Шекспир, особенно для романских стран, пленителен чаще всего лишь как великолепное чудовище. Подражают ему, не понимая; подражают именно непонятному. Недаром, и елизаветинцы, современники его, оказались почему‑то по вкусу русским «имажинистам». Недаром, Мильтон (непонятый Тэном) в одном из «жестоких рассказов» Вилье де Лиль Адана упоминается как чтимый, но не читаемый гигант. Недаром, многие из лучших английских писателей почти неизвестны на континенте, тех же, кого знают, узнали ценой невероятного упрощения (да и одеревянения иногда) подлинного их образа. Так уж повелось: Свифт — угрюмый балагур, Стерн — циничный остроумец, английские поэты — диковинные люди, английские романисты — изобразители диковинных людей. Возлюбленный Байрон стал достоин любви, потому что вызвал незабываемое удивление; милый Диккенс дважды мил, потому что герои его вдвойне чудаковаты для тех, кто не узнает в них земляков. Вспомним только, как изобразили Киплинга братья Таро, как у Моруа описан Шелли: писатель превратился в марионетку, поэт, при всем умении и осведомленности биографа, всё‑таки, словно упал с луны. А какого нелепого кумира сотворили себе континентальные уайльдоманы, и каким бездушным зубоскалом обернулся в свое время у Таирова на московской сцене такой живой и человечный автор, как Честертон! (
Все эти люди, все эти таланты, уже, в силу своей национальной принадлежности, при всем различии дарований, характеров, времен, имеют общую черту: они все чудаки — «островитяне». Так думают на континенте, и в конце концов для воззрений такого рода можно найти некоторое частичное оправдание. Нигде, как в Англии, — в этом сомнения нет, — личность писателя не очерчивается так всему наперекор, так безповоротно, так безудержно, так жестко. Французские книги словно написаны все людьми, знакомыми между собой, гостями одной гостиной; немецкие — меченосцами одной дружины или посвященными одной мистерии; английские книги написаны людьми, друг другу враждебными или просто чужими, или, вернее, — такими, которые знать друг друга не хотят. Но эту крутую замкнутость в своем творении творца потому и понимают плохо вне Англии, что видят в ней лишь внешнее чудачество (к которому она довольно часто и приводит), и не отдают себе отчета в том, как глубоко она укоренена во внутреннем устройстве английской нации и английской культуры, не видят земли, которая всех вскормила и сроднила, хоть и столь разных — и таких свободных — родила детей. Еще меньше видят, что земля эта — не чужая, а всем нам общая, наша, европейская земля, что национальные черты английской литературы нисколько не отрывают, не отчуждают ее от нас, и что самые черты эти лишь до тех пор будут казаться нам непонятными и чуждыми, покуда подлинный их смысл мы будем смешивать с их внешнею личиной.
Казалось бы, догадаться об этом нам, русским, следовало раньше, чем кому‑либо. В серебряный век нашей литературы, накануне революции, английские влияния у нас не первенствовали (хотя и это не оправдывает, конечно, нашего теперешнего неведения); зато всем остальным нашим прошлым мы, вероятно, больше подготовлены к восприятию английской литературы, чем какой бы то ни было другой. Не стоит распространяться о влиянии Стерна, Вальтер–Скотта, Диккенса, о русском байронизме, о том, что мог бы возникнуть русский Шекспир, если бы родился русский Август Шлегель. Есть явление более показательное: величайший русский поэт, из всех европейских литератур, более всего обязан именно английской. Принято, правда, считать, что Пушкин воспитывался на французской поэзии, но это верно лишь в том смысле, что в период, предшествовавший настоящей его зрелости, он был ее невольным учеником. Что такое влияние Парни, Вольтера и Шенье рядом с той красноречивой истиной, что тон и стих «Евгения Онегина» были бы невозможны без тона и стиха Байроновского «Дон–Жуна», что «Борис Годунов» немыслим без Шекспира, как «Арап Петра Великого» и «Капитанская дочка» без Вальтер–Скотта, что «Скупой рыцарь» выдан за перевод с английского, а «Пир во время чумы» почти полностью с английского переведен. Раскройте «Раскаяние» Кольриджа, и вам покажется, что вы читаете по английски «Каменного гостя», до такой степени близки к пушкинским в этой драме и строение стиха, и система образов, и как бы самые голоса действующих лиц, и всё неопределимое в словах течение стихотворной речи.
Это проникновение великого поэта в величие чужой поэзии не случайно, как не случайны история русской литературы и развитие пушкинского гения. Есть внутреннее родство, хотя бы уже в самом отношении литературы к жизни, сближающее Россию с Англией.
В Англии требуют от литературы так же мало «духа гецметрии», как у нас, и так же много душевной человеческой насыщенности. В Англии ответственность писателя за свою книгу качественно похожа на ту ответственность, какую привыкли возлагать на него у нас. Именно поэтому, должно быть, во времена всеобщего расцвета европейского романа, русская его форма, всё‑таки, ближе всего была к английской. Достоевский в молодости переводил Бальзака, боготворил Жорж Санд и подражал Эжену Сю, однако начал он внутренне всё же с Диккенса. Томас Гарди, по своему мировоззрению, по чувству жизни, очень далек от Толстого, и всё‑таки из романистов всего мира родственнее всех ему Толстой. Различий, разумеется, тоже замалчивать нельзя, однако, если вдуматься в них достаточно глубоко, если вычесть неизбежный «местный колорит» и личное несходство в отдельности взятых авторов, то придется отметить одну основную черту, отличающую английскую литературу от всех других литератур, в том числе и от русской, но столь знакомую и родную нам, что мы нередко приписываем ее себе, забывая, что не имеем на то столь же неоспоримого права, как англичане.
Дело в том, что в культурной жизни европейских стран литература не обладает нигде таким не только первенствующим, но почти исчерпывающим значением, как в Англии. Пластические искусства занимают больше места в итальянской культуре, чем искусство слова, а во французской соперничают с ним. С Сервантесом поспорит Веласкес; с немецкой поэзией — немецкая музыка. В России после Петра литература играла огромную роль в национальной жизни, но рядом с ней кто же забудет о русской музыке, об Иванове и Врубеле, об архитектуре Петербурга? В Англии литература — всё; ей изошло или в ней до конца нашло себя английское художественное творчество. Так было не всегда, но с веками литература всё вобрала в себя и всё в себе растворила. Истинно великую архитектуру (и скульптуру, тесно связанную с ней) знала лишь средневековая Англия. Последним великим английским музыкантом был Пёрселль, искусство которого уже неотделимо от театра и от поэтического дара сотрудника его, Драйдена. Из всех английских живописцев новых времен, собственно, лишь Констэбль может претендовать на истинно европейское значение; слава портретистов XVIII века почти столь же преувеличена еще и сейчас, как преувеличена была прежде слава прерафаэлитов. Тяготение к литературе еще сильнее, чем у нас, проглядывает в самом творчестве английских художников. Гогарт, несмотря на свое живописное мастерство, всё же по крови литератор; Рейнольде с таким же академическим изяществом, как кистью, владел пером; Блек и Россетти были поэтами звуков и слов больше еще, чем поэтами рисунка; друг Китса, Гайдон, писал невозможные картины, но оставил превосходную автобиографию. В Англии, как на шекспировской сцене, одной силой слова творятся горы и моря, венецианские мраморы, звездные небеса, белые статуи в глубине аллей и музыка, доносящаяся из ночного сада.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним, чувственным, за грань их не ступая…
Целомудрие ли особого рода, или какая другая тайная боязнь, но что‑то всегда мешало английской творческой душе остаться в плену всепоглощающей музыкальной стихии или отдать все свои силы от законов земного тяготения не избавленным вещественным творениям. Всегда переступала она указанную Боратынским грань, и, переступив, с тем большей любовью и тоской оглядывалась назад, всматриваясь в созданье кисти и резца, прислушиваясь к торжественным органным звукам. Не потому ли в Англии и родился романтизм? Не потому ли английская поэзия и сумела заключить в себе столько музыки, как никакая другая в мире? Не потому ли греческое и итальянское искусство, вместе со всей той чувственно–телесной жизнью, которая раз навсегда запечатлелась в нем, нигде так жадно не впитывалось литературой, нигде так не обожествлялось поэзией, как в Англии? Нет нигде в мире театра, который, как театр Шекспира, вобрал бы в себя не только всю пеструю человеческую жизнь, но еще и все искусства, не объединяя их в себе, как о том мечтал Вагнер, или, как это было в известной мере осуществлено греческим театром, а заменяя их собой, расплавляя их в поэзии. Английская литература — самая богатая из всех литератур именно потому, что в ней всего последовательней проведена объединяющая роль, присущая вообще словесному искусству. Но, соединяя в себе основные начала всех искусств, поэзия уединяет поэта гораздо больше, чем бывает уединен в своем искусстве живописец, зодчий или музыкант. Истинный островитянин своего острова, Робинзон своей собственной души, английский писатель, английский поэт, — да и англичанин вообще, — потому и представляется нередко чудаком, оригиналом и даже каменным каким‑то изваянием, что он всецело погружен в свой внутренний мир, и что в одном этом внутреннем мире, одним лишь обращенным в себя вторым зрением умеет он видеть то, что дано в красках и образах переживать, в чем позволено терять себя другим художникам, другим, рожденным не той землей, не той историей воспитанным народам.