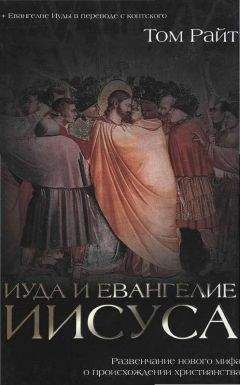Проповедуемая же христианством деятельная любовь к людям есть именно симфоническая, встречная любовь – Агапэ, или, выражаемое соборной, нравственной природой человека – искание ответной любви. Деятельная любовь к людям и есть такое искание ответной любви. Только так – в нравственном поле ответности и отзывчивости – и может быть правильно осмыслена парадоксальная на первый взгляд заповедь Иисуса Христа – «любите врагов ваших, благославляйте проклинающих вас» (Мат. 5, 44) или «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Мат. 5, 39—40), а вовсе не в смысле сугубо индивидуального совершенствования или какого-нибудь толстовского «непротивления злу слой». Противопоставление Эроса и Агапэ здесь не есть противопоставление «Афин» и «Иерусалима», как у Л. И. Шестова (т.е. противопоставление рационализма и иррационализма), потому что «Афины» это не только Платон, но и Сократ (впрочем, и сам Л. И. Шестов высоко оценивал Сократа). Если Платон – это «пещера» души, теория «эйдосов» и учение об Эросе, то с Сократом связаны «диалектика» и «маевтика», Божественное непознаваемое и «софросина» души (целомудрие), наконец, моральная критика познания. Диалогический, соборный метод познания Сократа не терпит одиночества, но может реализовываться лишь при условии симфоничности познания. Агапэ совсем не исключает интеллектуальных процедур, связанных с познавательной деятельностью, напротив, онтологически обосновывает их. Кроме того, христианство представляет собой очень сложное явление: ему в равной мере присущи как глубина умозрения, так и мистическая глубина непосредственного созерцания «тайны бытия». Правда, необходимо все же признать, что учение Платона об Эросе как раз и привлекательно тем, что в нем сделана попытка уяснить умный, духовный характер любви. Ошибка (или умысел) Платона состояла в незаконной редукции духа к мышлению (в понятиях). В познании любви необходимо двигаться не от логики разума к алогичности любви (как в учении об Эросе), а, напротив, от самой любви как образующей субстанции человеческого бытия к умному мышлению о любви: разум есть нечто, порожденное любовью. Любовь находит свое продолжение в способности мыслить, понимать. Понимать значит делиться любовью, расточать любовь. В свою очередь любовь пробуждает мысль, наполняет с-мыслом окружающую действительность. Неспособный мыслить, неспособен и любить, и нелюбящий не достигнет понимания, ибо любовь всегда умна, хотя бы этот ум и вступал в противоречие со всем миром и творимым в нем безмыслием. Не это ли имел ввиду Бл. Августин, говоря: «Люби – и тогда делай, что хочешь»? И этот умно-возвышенный, софийно-симфонический смысл любви прямо утверждается в евангельской Агапэ.
Платонические черты русской философии серебряного века, самый «метафизический выбор» которой, как справедливо отмечает В. В. Сербиненко, «в значительной мере предопределен влиянием на отечественную духовную культуру платонизма»100, проявляются прежде всего в заметной эстетизации нравственного бытия – В. С. Соловьев, как и Ф. М. Достоевский, полагал, что «красота нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо только ею просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира»101, и даже – в отрыве эстетического от этического, как у С. Н. Булгакова, считавшего, что «православие имеет основной идеал не столько этический, сколько религиозно-эстетический: видение «умной красоты», которое требует для приближения к себе особого «умного художества», творческого вдохновения, последнее же остается уделом немногих, а большинство довольствуется моралью, которая сама по себе не имеет духовного вкуса, не вдохновляет…»102. Тот же эстетически-эротический момент проявляется и в учении о «Мировой душе», или «Вечной Женственности», которое в русской духовной культуре привлекло не одного В. С. Соловьева. Эстетическая дистанция здесь реализуется в утверждении безответности «Вечной Женственности». Для платоника В. С. Соловьева последней может быть только Небесная Афродита, Афродита-Урания (Aphrodita Sodomica) бесплодная, но зато рождающая образы, фантазии, философии, молитвы103. Точно так же «гипостазирует» женственность и С. Н. Булгаков, утверждая ее как Софию в качестве «четвертой ипостаси»104. В. В. Розанов довольно противоречиво сочетает обожествление женственности с объяснением ее как «проявления повышенной самочности»105. Н. А. Бердяев переводит женственность в «девственность» как андрогинность106. Интересно, что такой откровенно теософически-синкретический писатель, как Д. Л. Андреев, по сути с тех же (платонических) позиций противопоставляет сверхчеловеческую и сверхмирскую (безответную!) женственную красоту у «великого духовидца» В. С. Соловьева – чувственной и сладострастной (тоже безответной!) красоте «Великой Блудницы» А. Блока107. Наконец, очень характерно то, как русские мыслители понимают высшее Благо. К примеру, согласно С. Л. Франку, «Высшее благо,… не может быть не чем иным, кроме… жизни как вечного покоя блаженства, как самосознающей и самопереживающей полноты удовлетворенности в себе (курсив мой. – Д.Г.)»108. Это чисто платоновское, вполне гедонистическое, определение высшего блага совсем не знает ни чудесной глубины любви, ни со-общительности духовной жизни, в наиболее совершенной форме выраженной в догмате о Троичности, и напоминает собой скорее какое-то никакое существование.
И все же был в русской философии серебряного века мыслитель, чьи блистательные интуиции свидетельствуют не только о преодолении платонизма (неудовлетворенность Платоном заметна у многих русских философов, особенно – у В. В. Розанова и Л. И. Шестова), но и вплотную приближают нас к пониманию метафизической сути деятельной любви. Конечно же, речь идет о «внецерковном христианине» Н. А. Бердяеве и его мистической этике творчества. Н. А. Бердяев различает «этику закона», «этику искупления» и «этику творчества», каждая из которых имеет «свою положительную миссию в мире», но только этика творчества может быть «учением о пробуждении человеческого духа»109. Ибо «Душа может быть настолько поглощена идеей гибели и спасения, что это может стать маниакальным и болезненным сужением сознания. И тогда спасение от исключительной власти над душой идеи спасения приходит от творческого потрясения души. Искупление завершается лишь в творчестве. Это есть основная идея новой этики»110. Н. А. Бердяев подчеркивает, что «Природа творческого акта брачная, она всегда есть встреча»111, т.е. творчество является прямым выражением соборной, симфонической природы человеческого самобытия. Материалы творчества черпаются из сотворенного Богом мира. Это мы видим во всех изобретениях и открытиях. Это мы видим в творчестве познания, в философии, которая предполагает бытие и сотворенный Богом мир, предметные реальности, без которых мышление происходит в пустоте. Богом дан человеку творческий дар, талант, гений и дан мир, в котором и через который должен совершаться творческий акт. «От Бога исходит зов, чтобы человек совершил творческий акт, осуществил свое призвание, и Бог ждет ответа на свой зов. Ответ человека на зов Божий не может целиком слагаться из элементов, данных Богом и от Бога исходящих. Что-то должно исходить и из человека, и это есть то, что есть творчество по преимуществу, творчество нового и небывшего (курсив мой. – Д.Г.)»112. Творчество носит напряженно личный характер, оно всегда есть самоопределение113. Этика творчества утверждает ценность индивидуального и неповторимого. И это «есть новое явление в нравственном мире»114. Сама нравственная жизнь, нравственные оценки и деяния носят творческий характер. Для этики творчества «нравственная задача есть неповторимо индивидуальная творческая задача»115: «Человек всегда должен поступать индивидуально и индивидуально разрешать нравственную задачу жизни, должен обнаруживать творчество в нравственных актах своей жизни, ни одно мгновение не должен превращаться в нравственного автомата»116. «Творческое напряжение есть нравственный императив, и притом во всех сферах жизни»117, «осуществление истины и красоты есть также и нравственное благо»118. По сути, в этике творчества Н. А. Бердяева мы находим в разработанном виде метафизические основания для реализации той положительной программы «истинного, или деятельного, христианства», которая была высказана В. С. Соловьевым в его знаменитой работе «Об упадке средневекового миросозерцания» («истинное христианство есть прежде всего дело – дело жизни для человечества»119).