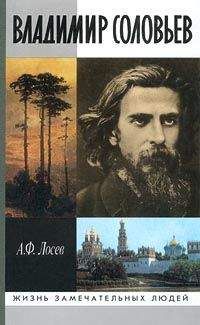В–третьих, еще ближе к обывательскому пониманию мистики стоят соловьевские софийные переживания. София, по Вл. Соловьеву, вообще говоря, как раз и есть материализация идеального. Но у Вл. Соловьева она еще более насыщена разного рода интимными переживаниями, и притом не только религиозными или философскими, но и вполне интимными, сердечными, часто даже просто любовными. Что касается самого Вл. Соловьева, это является для него источником, между прочим, также и его поэтических вдохновений. Но в принципиальном смысле дело здесь вовсе не сводится у него только к поэзии, но охватывает собою целый ряд областей знания и бытия, несмотря на полную раздельность и даже взаимную противоречивость этих областей в бытовом человеческом сознании.
Наконец, в–четвертых, — и тут обыватель может танцевать от радости — Вл. Соловьеву были свойственны переживания злой силы в человеческом виде, причем он сам открещивался от них как мог, а иной раз и совсем не мог откреститься. Ну вот, скажет обыватель, мы же вам говорили, что Вл. Соловьев — мистик, так оно и есть. Да, находясь на самой твердой позиции объективного исторического повествования, мы обязаны сказать, что так оно действительно у Вл. Соловьева и было. Однако мы боимся не чертовщины, но боимся понимания ее вне наших общественно–политических и вообще социальных и притом безупречно точных научных методов. Что касается общественно–политического подхода, то все эти галлюцинации относятся к последнему периоду его творчества, когда он разочаровался в своей теократии, в своем прогрессизме и почувствовал слабость перед противными ему историческими силами, шедшими к мировой катастрофе и к эсхатологии. Вот потому‑то он иной раз и не мог силою креста прогнать демона. Дело не в кресте и не в демоне, а в социально–политических разочарованиях философа.
Если мы усвоим все, что было выше сказано о «мистике» Вл. Соловьева, то теперь для нас многое выяснится и в тех его переживаниях, которые заставляют его строить собственную философскую систему.
3. Идеализм Вл. Соловьева. Такие термины, как «идеализм» и «материализм», имели в истории философии бесчисленное множество разных значений. Сказать, что Вл. Соловьев идеалист, и этим ограничиться в его характеристике — это значит не сказать ничего. Даже такие термины, как «объективный» идеализм или «субъективный» идеализм, тоже ничего не говорят, поскольку объективных и субъективных идеалистов в истории философии было неисчислимое множество. Несомненно, гораздо более типично для идеализма Вл. Соловьева понятие Софии. Однако и здесь необходимо избегать слишком общих выражений, хотя бы они были даже и редкими.
Учение о Софии мы находим в античном неоплатонизме. Но античные неоплатоники — это язычники, то есть в основном пантеисты. Вл. Соловьев же — строгий монотеист; его София в основном монотеистична. Понятие Софии мы находим у теософов Бёме или Сведенборга, которых Вл. Соловьев, между прочим, внимательно изучал. Но Бёме и Сведенборг — либо протестанты, либо тоже пантеисты. Учение о Софии встречается также в немецком идеализме и романтизме. И в этом немецком идеализме и романтизме Вл. Соловьев тоже находил подтверждение своему учению о Софии. Но опять‑таки, немецкие идеалисты и романтики — либо протестанты, либо для Вл. Соловьева слишком односторонние рационалисты.
Будучи православным теологом, Вл. Соловьев чувствовал себя ближе всего к древнерусским софийным представлениям, в результате которых в Древней Руси появлялись даже целые храмы, посвященные Софии Премудрости Божией. Однако и здесь Вл. Соловьев оказался оригинальным мыслителем. Он не остался и не хотел оставаться на почве наивных и философски не проанализированных верований, и поэтому его идеализм — и не античный, и не классический немецкий, и не теософско–оккультный, и не византийскомосковский, и не наивно–фидеистический. Если задаться вопросом о специфике этого идеализма, то его необходимо назвать софийным‚ который пользуется для своего доказательства острейшими и точнейшими категориями немецкого идеализма, но основан на обостренных и вселенских чувствах всеединства.
Так можно было бы сказать об идеализме Вл. Соловьева, понимая этот идеализм как проблему самой личности философа. Если говорить кратко, то сущность софийного идеализма Вл. Соловьева заключается в критике изолированных идей и в критике их гипостазирования в абстрактном виде. Вместо этого Вл. Соловьев, и это в течение всей своей жизни, проповедует духовную и материально насыщенную идею, заостренную в виде страстно ощущаемой заданности, закона и метода ее бесконечных материальных осуществлений. Черты такой материальной насыщенности и острейшей реальной запланированное™ в учении об идеях, конечно, можно кое–где находить в истории философии. Но не будет ошибкой сказать, что у Вл. Соловьева это дано максимально выразительно и максимально жизненно, максимально личностно, не минуя и общественных выводов. Это и нужно считать софийным идеализмом Вл. Соловьева.
4. Материализм Вл. Соловьева. В связи с этим не так просто решается вопрос об отношении Вл. Соловьева к материализму. Что материализм противоположен идеализму и что из этих двух противоположностей Вл. Соловьев выбрал идеализм — сомневаться в этом могут только не читавшие Вл. Соловьева. Но вот в чем дело: зачем понадобилось Вл. Соловьеву учение о Софии? Ведь София — это та сторона глубин действительности, которая, оставаясь идеальным бытием, максимально обращена ко всему реальному и материальному. Когда Вл. Соловьев учит о божественной Софии, это есть у него совокупность всех идей материального мира, которые хотя пока и не являются чувственными, но уже и не просто идеальны в абстрактном смысле слова. Это — картина всей бесконечной действительности, которая сама еще не стала чувственной и исторической действительностью, но уже является ее прообразом, и тем ее прообразом или, как мы сказали, ее заданностью, замыслом, законом и методом ее бесконечных осуществлений, который будет ею руководить, когда она будет сотворена. На этом основании можно сказать, что из всех бывших в истории философии типов идеализма софийный идеализм является в материальном смысле максимально насыщенным‚ максимально близким к ее осуществлению и к ее реальной истории.
В утверждении этой идеально–софийной материи Вл. Соловьев не знал никаких пределов. Вся его эстетика есть не что иное, как учение о жизнесозидательных и жизненно деятельных формах красоты. Для Вл. Соловьева не существует никакой чистой красоты как противоположности всякой материи. Наоборот, красота только и имеет смысл — создавать действительность. Читая подобного рода страницы Вл. Соловьева, иной раз даже трудно решить, чего тут больше, идеализма или материализма.
Точно так же Вл. Соловьев поразил в свое время философскую общественность, когда в специальной работе доказал связь позитивистского учения Огюста Конта с учением о всечеловеческой Софии. Это, конечно, не материализм. Но очень трудно привести из истории философии пример такого слияния идеализма с материализмом, которое мы находим в подобных произведениях Вл. Соловьева. Слить идеализм и материализм невозможно. Но Вл. Соловьев употребил все силы своего таланта, чтобы это слияние произвести. И такое слияние вовсе не свидетельствует о том, что снимается всякое различие между материализмом и идеализмом и что это различие не характерно для всей истории философии. Наоборот, сливаться и перемешиваться могут только такие принципы, которые друг другу противоположны. А если не существует принципиальной противоположности, тогда и сливаться будет нечему.
С этой стороны Вл. Соловьев еще очень мало изучен. Из десятков, а может быть, сотен размышлений его на эти темы мы приведем лишь два места из третьей речи о Достоевском.
Здесь мы читаем такие сочувственные слова о вере Достоевского в человека: «Но его вера в человека была свободна от всякого одностороннего идеализма или спиритуализма: он брал человека во всей его полноте и действительности; такой человек тесно связан с материальной природой, — и Достоевский с глубокой любовью и нежностью обращался к природе, понимал и любил землю и все земное, верил в чистоту, святость и красоту материи. В таком материализме нет ничего ложного и греховного» (III, 213).
Даже больше того. Понимать материю как пустой механизм означает, с точки зрения Вл. Соловьева, унижать материю и оскорблять ее достоинство. Даже если признавать, что материя все из себя производит и всю себя из себя порождает, то и этого слишком мало для величия материи. Нет, только тогда материя получает для нас свое настоящее значение, когда она способна стать максимально совершенным бытием, и притом настолько совершенным, что даже все божественные совершенства, которые человечеством приписывались божеству, оказываются субстанциально присущими также и материи. Но пантеизма для Вл. Соловьева здесь было бы очень мало, поскольку пантеизм безличен и бездушен. Нет, именно самая духовная и личностная религия, христианство, необходимым образом проповедует как раз возвышение и освящение материи. И это достигается в учении о богочеловечестве Христа, в котором и Божество дано по своей субстанции, и человек дан по своей субстанции, нераздельно, но и неслиянно. В этом отношении удивительно проникновенно звучат слова все тех же речей о Достоевском.