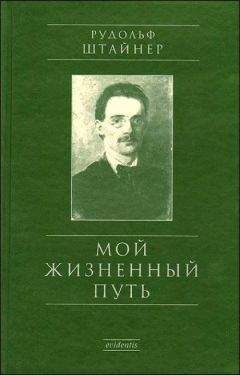Следовало бы в настоящий момент перечитать то, что говорил он тогда: острота его прозрений изумительна. Но в то время смеялись над многим из того, что через десятилетия стало горькой действительностью.
Прийти к мыслям относительно общественной жизни Австрии, которые некоторым образом глубже захватили бы мою душу, мне тогда не пришлось. Дело не шло дальше наблюдения чрезвычайно сложных отношений. Вызвать во мне более глубокий интерес могли лишь беседы с Карлом Юлиусом Шрёэром. И я мог часто посещать его в этот период. Его судьба была тесно связана с судьбой немецкой Австро-Венгрии. Он был сыном Тобиаса Готфрида Шрёэра[40], директора немецкого лицея в Пресбурге и автора многих драм, а также книг по истории и эстетике. Последние были изданы под псевдонимом Хр. Озера и стали популярными учебниками. Менее известны поэтические произведения Тобиаса Готфрида Шрёэра, несмотря на их несомненную значимость и горячее признание в узких кругах. Образ мыслей, которым они проникнуты, противостоял господствовавшему тогда в Венгрии политическому течению. Поэтому стихи эти — без упоминания имени автора — частично были опубликованы за границей, в немецкоязычных странах. Если бы в Венгрии стало известно духовное направление автора, это повлекло бы за собой не только отстранение от должности, но и более тяжелое наказание.
Карлу Юлиусу Шрёэру пришлось, таким образом, уже в юности испытать в собственном доме гнет, которому подвергалось все немецкое. И под этим гнетом в нем развивалась преданность немецкой самобытности, немецкой литературе, а также великая любовь ко всему, что касалось Гете. Глубокое влияние оказала на него "История немецкой поэзии" Гервинуса[41].
В 40-е годы XIX столетия он едет в Германию, чтобы изучать немецкий язык и литературу в университетах Лейпцига, Галле и Берлина. По возвращении он занимает сначала место учителя немецкой литературы и руководителя семинара в лицее своего отца. Тогда же он знакомится с народными рождественскими играми, которые ежегодно проводились в окрестностях Пресбурга немецкими колонистами. Его душе столь привлекательным для него образом открывалась немецкая самобытность.
Игры эти были привезены столетия тому назад немцами, переселившимися в Венгрию из западных областей. И ставились они так же, как когда-то в давние времена на Рождество в прибрежных областях Рейна. Сказание о Рае, Рождество Христово, явление трех волхвов на народный лад продолжали жить в этих играх. Прослушав или просмотрев старые рукописи, показанные ему крестьянами, Шрёэр публикует их под названием "Немецкие рождественские игры в Венгрии".
Любовное вживание в немецкую самобытность все более захватывает душу Шрёэра. Он совершает путешествия в различные области Австрии для изучения немецких наречий. Повсюду, где в славянских, венгерских, итальянских областях Дунайской монархии была вкраплена немецкая народность, он стремится ознакомиться с ее особенностями. Так возникли его словари и грамматика ципского наречия, принятого на юге Карпат, готтшейского наречия, на котором говорит небольшая часть немцев, живущих в Крайне, языка геанцев, на котором говорят в западной Венгрии.
Изучение всего этого было для Шрёэра не только научной задачей. Всей своей душой он жил в откровениях народного духа и хотел донести его сущность посредством слова и письма до сознания тех людей, которые были вырваны из него жизненными обстоятельствами. Затем он стал профессором в Будапеште. Однако из-за господствовавших в этом городе настроений ему здесь было неуютно. И тогда он переехал в Вену, где сначала ему поручили руководство евангелическими школами и где позднее он стал профессором немецкого языка и литературы. Я познакомился и сблизился с ним, когда он уже занимал это место. В этот период все его помыслы и жизнь были связаны с Гете. Он работал над предисловием ко второй части "Фауста"[42] и уже опубликовал первую.
Во время моих посещений Шрёэра, в его маленькой библиотеке, служившей ему в то же время и кабинетом, я погружался в духовную атмосферу, в высшей степени благотворно действовавшую на мою душу. Я уже знал тогда, как враждебно относились к Шрёэру последователи господствовавших литературно-исторических методов, и в первую очередь из-за его "Истории немецкой поэзии XIX столетия". Он писал не так, как, например, представители школы Шерера, обращавшиеся с литературными явлениями, как естествоиспытатели. Он вынашивал в себе определенные ощущения и идеи относительно литературных явлений и чисто "по-человечески", доступно излагал их, почти не обращаясь к "источникам". Говорили, что свои сочинения он писал прямо "с лету".
Меня это интересовало мало. Я душевно согревался, когда был рядом с ним. И я мог проводить у него много времени. Из его пылавшего воодушевлением сердца возрождались в живом слове рождественские игры, дух немецких наречий, течение литературной жизни. Отношение диалектов к литературному языку становилось для меня практически наглядным. Мне доставляло истинную радость, когда он, как на лекциях, так и дома, говорил о поэте Йозефе Миссоне, писавшем на нижнеавстрийском наречии и сочинившем прекрасное произведение "Наац, крестьянский парень из Нижней Австрии, отправляется на чужбину". Шрёэр всегда давал мне книги из своей библиотеки, по которым я мог далее развивать содержание наших бесед. Когда мы были одни, меня всегда охватывало чувство, что вместе с нами присутствует и третий — дух Гете. Ибо Шрёэр так сильно вжился в суть и творения Гете, что при каждом ощущении или идее, появлявшейся в его душе, у него тотчас же возникал продиктованный чувствами вопрос: так бы ощущал или думал в этом случае Гете?
С величайшей симпатией я духовно прислушивался ко всему, что исходило от Шрёэра. И все же, в противоположность Шрёэру, я продолжал совершенно самостоятельно строить в собственной душе то, к чему я стремился духовно-интимно. Шрёэр был идеалистом; мир идей, как таковой, являлся для него тем, что в процессе творения природы и человека действовало как движущая сила. Для меня же идея была тенью исполненного лсизни духовного мира. И мне было трудно даже для самого себя выразить в словах различие между моим и шрёэровским образом мыслей. Он говорил об идеях как о движущих силах истории. В бытии идей он чувствовал жизнь. Для меня же за идеями скрывалась жизнь духа, а идеи являлись лишь проявлениями её в человеческой душе. Я не мог тогда найти для моего образа мышления иного слова, чем "объективный идеализм". Этим я хотел подчеркнуть, что существенным в идее является для меня не то, что она проявляется в человеческом субъекте, а то, что она, подобно цвету на чувственном предмете, выявляется в духовном объекте и человеческая душа — субъект — воспринимает ее так, как глаз воспринимает цвет живого существа.
К моим воззрениям Шрёэр со своей формой выражения приближался в наибольшей степени, когда мы касались того, что раскрывается как "душа народа". Он говорил о ней как о реальном духовном существе, которое проявляется в общности отдельных людей, принадлежащих к одному народу. При этом его слова были не просто обозначением некой абстрактной идеи. Таким образом мы рассматривали устройство старой Австрии и действовавшие в ней индивидуальности народных душ.
Благодаря всему этому для меня стало возможным прийти к некоторым мыслям относительно состояния общества, которые оказали глубокое влияние на мою душевную жизнь.
Таким образом, в этот период мои переживания были сильно связаны с моим отношением к Карлу Юлиусу Шрёэру. Однако он был далек от естественных наук, к внутреннему согласию с которыми я стремился прежде всего. Я хотел согласовать мой "объективный идеализм" с природопознанием.
В период самого живого общения со Шрёэром душе моей по-новому предстал вопрос о соотношении мира духовного и мира природы. Сначала это произошло совершенно независимо от естественнонаучного образа мышления Гете. Ведь даже Шрёэр не мог сказать мне ничего определенного об этой области гетевского творчества. Он испытывал радость, когда находил у того или иного естествоиспытателя благожелательное отношение и признание гетевского воззрения на растительный и животный мир. Что касается гетевского учения о цвете, то здесь со стороны естествоиспытателей он находил лишь категорическое отрицание. Сам он не выработал в этой области особого мнения.
Мое отношение к естественным наукам в этот период моей жизни вовсе не находилось под влиянием того, что благодаря общению со Шрёэром я приблизился к духовной жизни Гете. Оно развивалось скорее благодаря трудностям, возникшим в связи с моими размышлениями о фактах оптики с точки зрения физиков.
Я считал, что естественнонаучный взгляд на звук и на свет как на аналогичные явления неприемлем. Принято было говорить о "звуке вообще" и о "свете вообще". Аналогия эта заключалась в следующем: отдельные тона и звуки рассматривались как особо модифицированные колебания воздуха, и объективное в звуке — как некое состояние колебания воздуха. При этом исключалось переживаемое человеком ощущение звука. Аналогично мыслился и свет. То, что разыгрывается вне человека, когда он воспринимает явление, вызванное благодаря свету, определялось как колебание в эфире. Отсюда делали вывод о том, что цвета суть особо организованные колебания эфира. Для моей душевной жизни эта аналогия была тогда поистине мучительна. Ибо мне было совершенно ясно, что понятие "звук" есть лишь абстрактное обобщение отдельных явлений мира звуков, тогда как "свет" — это само по себе нечто конкретное в отношении явлений освещенного мира.