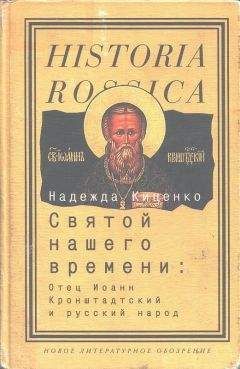О. Иоанну главным в священнической стезе представлялось служение миру, своим прихожанам. Если священник, подобно средневековому королю, существовал в двух ипостасях — частной и предписанной обрядом общественной — нет сомнений, какая из них имела для него большее значение. Священнику мало стремиться к спасению своей души; он также должен постоянно помнить о спасении паствы, за которую он в ответе. Батюшка заявлял: «Священнику молиться только о себе — грешно; молитва о пастве всегда должна за ним следовать». Эгоизм и погруженность в собственные проблемы — самый тяжелый из возможных проступков священника, который просто не имеет морального права на частную жизнь. В дневниках о. Иоанн упрекал священников за то, что они читают, но не применяют уроки, извлеченные из чтения, в общении с паствой: «Итак, пастыри Христова стада, читайте — но и сами говорите, сами пишите, будьте как пчелы. Ваша жизнь должна быть посвящена благу пасомых, как посвящена жизнь родителей благу детей»{159}.
Право совершать таинства являлось для священника вернейшим средством всколыхнуть сердца паствы и увлечь ее на путь спасения. Важнейшим из них и центральным для всей духовной жизни о. Иоанна являлась Евхаристия. Он постоянно упоминает об этом таинстве в дневниках, восторженно свидетельствуя о силе и радости, которые он получает от принятия Святых Таин. Для него Евхаристия была самой жизнью, и ежедневное причащение означало небывалую прежде напряженность духовной жизни и общения с Богом: «О, величайшее блаженство св. Тайны! О, живот дающие св. Тайны! О, любовь неизглаголанная божественные Тайны!»{160} Батюшка приписывал свое физическое и духовное здравие исключительно Евхаристии{161}. Если прежде его изумляло чудо, сотворенное Христом над хлебом и рыбой (Евангелие от Иоанна 21:11), то теперь его волновало, как становится возможным таинственное превращение частиц.
«Что удивительного, что тебе предлагает в пищу и питие Тело и Кровь Свою Господь?.. Как прежде в младенчестве ты питался матерью и жил ею, ее молоком, так теперь, выросши и ставши греховным человеком, ты питаешься кровью своего Жизнодавца, дабы чрез то был жив и возрастал духовно в человека Божия, святого, короче: чтобы, как тогда ты был сыном матери, так теперь был бы чадом Божиим, воспитанным, вскормленным Его Плотию и Кровию, паче же Духом Его (ибо плоть и кровь Его суть дух и живот)»{162}.
Однако утверждение, что обыкновенные хлеб и вино во время литургии верных становятся буквально Телом и Кровью Христовыми, до такой степени находится за пределами обыденной логики, что таинство Евхаристии требует от приобщающегося настоящего прорыва в его вере. Поэтому для кого-то данное таинство становится искушением и повергает в сомнение, а кого-то, напротив, побуждает уверовать{163}. Отношение о. Иоанна к Евхаристии было постоянным подвигом веры. Так, в 1860 г., в Великий и Святый четверг (четверг Страстной недели, когда православные вспоминают Тайную Вечерю, положившую начало таинству Евхаристии), он подверг сомнению абсолютное присутствие Бога в каждой частице причастия; однако его молитвы о преодолении сомнения были услышаны. Такие утверждения, как «верую и исповедую, что малейшая частица агнца и малейшая капля вина Его кровь», следует понимать как ответ на другие возникающие сомнения и как способ их преодоления. Утверждение переходило в проповедь: «Сколько бы ни было частиц, а все они — дух и живот или всецелый Христос, и все они — от одного хлеба… так и христиане, сколько бы их ни было — единое Тело Христово»{164}.
Однако подобного рода сомнения возникали лишь в первые годы пастырского служения о. Иоанна. В дальнейшем он пришел к выводу, что нет рационального объяснения превращению хлеба и вина в Плоть и Кровь, и, освободившись от пустопорожних схоластических измышлений о природе этого чуда, он просто стал уделять большее внимание состоянию причастника во время таинства Евхаристии. В его последующих записях о причастии преобладает описание практических путей преодоления возможных сомнений на этот счет. Так, например, он писал:
«“Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем”. Это осязательно и опыт подтверждает это. Преблажен, преисполнен жизнью тот человек, который с верою причащается св. Таин, с сердечным раскаянием во грехах. Это истина осязательна, ясна еще из противного. Когда без искреннего раскаяния во грехах и с сомнением приступаешь к св. Чаше, тогда входит в тебя сатана и пребывает в тебе, убивая твою душу, и это бывает чрезвычайно ощутительно»{165}.
В последней фразе речь идет одновременно о страхе и угрозе — боязни причаститься, будучи недостойным, — которая должна была передаваться его пастве, доверявшей ему свои религиозные проблемы. С годами пастырь стал еще более твердо придерживаться данной точки зрения. О. Иоанн утверждал: «Кто приходит к св. Чаше с какою-либо страстью на сердце, тот Иуда и приходит льстиво лобызать Сына человеческого»{166}. Он писал так не для того, чтобы запугать своих прихожан; он сам ощущал себя предателем в случае «недостойного» причащения и мучительно переживал это в течение нескольких дней. Но как же в таком случае он мог, поборов страх, подойти к чаше? Он изобрел методы, позволявшие ему принимать причастие. Один из них отсылал к словам Яхве, торжественно сказанным Моисею: «Аз есмь Сущий» (Исход 3:14). Он звучал так:
«Чтобы с верою несомненною причащаться Животворящих Таин и победить все козни врага, все клеветы, представь, что принимаемое тобою из Чаши есть “Сый”, т. е. Един Сущий. Когда будешь иметь такое расположение мыслей и сердца, то от принятия св. Таин вдруг успокоишься, возвеселишься и оживотворишься, познаешь сердцем, что в тебе истинно и существенно пребывает Господь, и ты в Господе. — Опыт»{167}.
Емкий термин «опыт» демонстрирует стремление о. Иоанна использовать собственные духовные испытания как доказательство Божьего присутствия. Именно за такое апеллирование к опыту, а не за богословские изыскания полюбили пастыря современные ему протестанты{168}. Перестав тратить силы на логическое доказательство того, что требовало мощнейшего духовного прорыва, он теперь приводил чудо Евхаристии как пример — а на самом деле и как доказательство — существования иных явлений религиозной жизни, непостижимых для человеческого разума:
«Из постоянного чуда пресуществления хлеба и вина в истинное Тело и Кровь Христову, с Его Божеством и Душою соединенные, я вижу чудо постоянного оживотворения человека божественным дыханием и сотворения его в душу живу. “И бысть”, сказано, “человек в душу живу”, а на св. Трапезе хлеб и вино по пресуществлении становятся не только в душу живу, но и “в дух животворящ” (1 Кор. 15, 45; Быт. 2, 7). И это все на моих глазах; и я это испытываю душою и телом, ощущаю живо. Боже мой! Какие страшные Таинства Ты творишь! Каким неизглаголанных Тайн Ты сделал меня зрителем и причастником. Слава Тебе, Творче мой! Слава Тебе, Творче Тела и Крови Христовых!»{169}
Сам факт пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы был настолько чудесен, что другие чудеса на его фоне или просто меркли, или даже вытекали из него: если человек способен поверить, что хлеб и вино суть Божественная Плоть и Кровь, то он сможет воспринять и другие явления, непостижимые уму. Отношение о. Иоанна к чудесам зиждилось именно на изначальном уверовании в чудо Евхаристии. Евхаристия — основа основ христианского обряда, она непостижима для человеческого разума и опровергает все естественные законы. Это по определению многократное, регулярно повторяющееся чудо. Христиане должны быть постоянно готовы к чуду, особенно в момент Святого Причащения, соединяющего человека с Богом наикратчайшим путем. О. Иоанн описывал чудодейственную силу причастия в весьма реалистичной манере:
«Хорошо молиться мне о людях, когда причащусь достойно: тогда Отец и Сын и Святый Дух, Бог мой во мне, и я имею великое пред Ним дерзновение. Царь тогда во мне, как в обители: проси чего хочешь. “К нему приидем и обитель у него сотворим. Елика хощете, просите, и будет вам” (Иоан. 14, 23; 15, 7)»{170}
Внутреннее чувство присутствия Божьего позднее дало о. Иоанну «дерзновение» молиться об исполнении просьб мирян и испытывать уверенность, что они будут исполнены. Более того, он чувствовал, что его миссия как священника состоит в том, чтобы хотя бы отчасти зажечь паству своим религиозным рвением. Спустя менее чем пять лет после рукоположения он уже считал неотъемлемой частью своей жизни ответственность за духовное становление прихожан, так что даже жаждал, чтобы они разделили его собственные достижения на пути к Господу. Так, в 1866 г. батюшка писал в дневнике: «Сегодня соединился с Господом в таинственном причащении на ранней литургии и бых полнота Исполняющего всяческая во всех. О, если бы это было всегда!.. то есть чтобы наполнить всех — все сердца»{171}. Неразрывная связь с паствой и совместное приобщение к Святым Тайнам стали сущностью его общественной пастырской ипостаси.