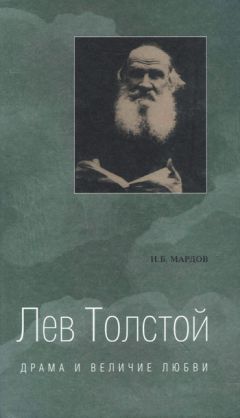[546]
«Этот святой, — рассказывает Кассиан о св. Антонии, — произнес полные божественной мудрости слова о молитве: если верующий замечает, что молится, то молитва его несовершенна» (Cassian. Coll. IX, cap. 31).
В Греции, в расцвет классической эпохи, мера и гармония в искусстве держались только на разуме. Сравнивая афинское искусство с искусством XII и XIII вв., можно увидеть некоторую разницу между «естественной» и «боговдохновенной» гармонией.
Sum. theol., I, q. 5, a. 4, ad 1. Впрочем, здесь св. Фома дает определение лишь по результату. Определение же по существу он дает, когда описывает три составных части прекрасного.
«Ad rationem pulchri pertinet, quod in ejus aspectu seu cognitione quietetur appetitus»[36*] (Sum. theol., I–II, q. 27, a. 1, ad 3).
Ibid.
Sum. theol., I, q. 39, a. 8. «Ad pulchritudinem tria requiruntur. Primo quidem integritas, sive perfectio: quae enim diminuta sunt, hoc ipso turpia sunt. Et débita proportio, sive consonantia. Et iterum claritas: unde quae habent colorem nitidum, pulchra esse dicuntur»[38*].
Св. Фома. Comment, in lib. de Divin. Nomin., lect. 6.
Св. Фома. Comment, in Psalm., Ps. XXV, 5.
De vera Relig., cap. 41.
Opusc. de Pulchro et Bono, — произведение, которое приписывают то Альберту Великому, то св. Фоме. — Плотин (Эннеады, I, 6), говоря о прекрасном в телах, описывает его так: «нечто, чувственно воспринимаемое нами с первого взгляда, и душа схватывает его, как бы разумея, и, распознав, принимает в себя и как бы настраивается на один с ним лад». Он прибавляет, что «все бесформенное, способное по природе своей принять форму (μορφή) и идею (είδος) и лишенное, однако, ума и идеи (άμοιρον ον λόγου και είδους), безобразно и чуждо божественному уму». Из этой чрезвычайно важной главы о прекрасном следует запомнить еще замечание о том, что «простая… красота цвета [возникает] благодаря форме и преодолению темного начала в материи присутствием света, а свет бестелесен, он — ум и идея (λόγου και είδους όντος)»[44*].
«Visus et auditus RATIONI DESERVIENTES»[45*] (Sum. theol., III, q. 27, a. 1, ad 3). Не потому ли вообще чувство наслаждается пропорциональными вещами, что оно само — мера и пропорция и находит подобие собственной природе: «Sensus delectatur in rebus débite proportionalis, sicut in sibi similibus, nam et sensus ratio quaedam est, et omnis virtus cognoscitiva»[46*] (Sum. theol., I, q. 5, a. 4, ad 1). О выражении ratio quaedam (ή δ'αϊσθησις ό λόγος) см.: Comm. in de Anima, lib. Ill, lect. 2.
Можно предположить, что в возрожденных телах все чувства, проникнутые духом, смогут служить для восприятия красоты. (См.: Summa theol., Шае Partis Suppl., q. 82, a. 3 et 4.) Уже и теперь поэты учат нас в какой-то мере предвосхищать это состояние, — так, Бодлер ввел в эстетику обоняние.
Вопрос о постижении красоты интеллектом с применением чувств как инструментов заслуживает тщательного анализа и, как нам кажется, слишком редко привлекал утонченные умы философов. Его рассматривал Кант в «Критике способности суждения». К сожалению, ясные, интересные и иногда глубокие соображения, которые встречаются в этой «Критике» куда чаще, чем в двух прочих, искажены его манией системы и симметрии, а также, и более всего, изначальной ошибочностью и субъективизмом его теории познания.
Одно из его определений прекрасного заслуживает пристального внимания. Прекрасное, говорит он, это то, «что нравится абсолютно всем без понятий[557]». Истолкованное буквально, это определение может заставить забыть о важнейшей связи красоты и разума. Вот почему у Шопенгауэра и его учеников оно развилось в обожествление иррациональности музыки. Между тем оно по-своему преломляет гораздо более верную формулировку св. Фомы, согласно которой прекрасное — это id quod visum placet, то, что радует взор, т. е. постигается интуитивно. Из такого определения следует, что восприятие прекрасного — вовсе не смутное представление о совершенстве некой вещи или ее соответствии идеальному типу, как утверждала школа Лейбница-Вольфа. (См.: Критика способности суждения, Анализ прекрасного, параграф XV.)
В силу самой природы ума, вместе с восприятием прекрасного в нем возникает некое более или менее отчетливое понятие и зарождаются некие идеи[557]. Однако не этим определяется его отношение к форме; сияние, или свет, формы, которым лучится прекрасный предмет, предстает уму не через посредство понятий или идей, а с помощью самого этого, доступного чувствам, предмета, который постигается интуитивно и служит проводником света формы. Таким образом, можно сказать — на наш взгляд, это единственно возможное толкование слов св. Фомы, — что при восприятии прекрасного разум исключительно при помощи чувственной интуиции озаряется светом смысла (восходящего, как любая осмысленность, к изначальному смыслу божественных идей); это озарение заставляет любоваться красотой, оно неотделимо от сферы чувств, а потому не является рациональным познанием, выражаемым в понятии. Созерцая предмет при помощи чувственной интуиции, разум наслаждается представшим ему сиянием как явлением, смысл которого он не постигает. Отрешаясь от чувств для отвлеченного рассуждения, он лишается наслаждения и не соприкасается более с этим сиянием.
Чтобы лучше понять это, представим себе разум и чувство как нераздельное целое, т. е. некое, так сказать, «умственное чувство», которое доставляет душе эстетическое удовольствие.
Таким образом, разум не пытается — разве что задним числом — абстрагироваться от изумительного чувственного опыта, в созерцание которого он погружен, и анализировать причины своего наслаждения; прекрасное отлично стимулирует интеллект, но не развивает в нем способность к абстракции и рассуждению; восприятие прекрасного сопровождается своеобразным чувством насыщенности духа: нам кажется, что мы исполнены высшего знания о созерцаемом предмете, которое, однако, мы не в силах выразить, не в силах охватить мыслями и изложить научно. Так, музыка, быть может, больше всех прочих искусств заставляет нас радоваться бытию, но не дает знания о нем, нелепо было бы подменять ею метафизику. Удовольствие от художественного созерцания имеет прямое отношение к разуму, и следует согласиться с Аристотелем (Поэтика, IX, 1451 b 6), утверждающим, что «поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история — о единичном»[48*], в то же время постижение всеобщего, или сверхчувственного, происходит при этом внесловесно и без мыслительных усилий[557]. Такое постижение духовной реальности непосредственно «сердцем», не прибегая к понятиям как формальному орудию, позволяет провести аналогию между эстетическим переживанием и мистическим вдохновением, хотя это явления разного плана и с совершенно разной психологической основой. [ «С совершенно разной психологической основой», — написал я. Действительно, мистическое созерцание осуществляется, поскольку оно родственно любви; в данном же случае, наоборот, любовь к прекрасному и чувство соприродности с ним возникают как следствие или прямой эффект эстетического впечатления или переживания, — эффект, который естественным образом зеркально отражается на самом этом переживании, стократно его усиливая, развивая, обогащая. Это различие, на наш взгляд, недостаточно ясно обозначил о. Томас Гилби (Gilby) в интересном сочинении «Poetic Experience» (London, Sheed and Ward, 1934). Ср. далее, прим. 148.]
Заметим также, что если само восприятие прекрасного происходит помимо слов и без участия абстрактного мышления, то в подготовке к этому акту концептуальный контекст играет огромную роль. В самом деле, хотя вкус, или восприимчивость к красоте, как и сама по себе добродетель искусства, предполагает врожденный дар, но развивается он в процессе воспитания и образования, в частности, путем изучения и анализа произведений искусства; при прочих равных условиях чем больше сведущ ум в правилах, приемах, трудностях искусства и особенно чем больше ему известно о целях и намерениях художника, тем лучше он подготовлен к восприятию, при помощи чувственной интуиции, исходящего от произведения незримого сияния, а также к тому, чтобы произведение постичь и оценить. Поэтому друзья художника, знающие, чего он хотел достичь — как ангелы знают идеи Создателя, — наслаждаются его творениями несравнимо больше, чем публика; поэтому же красота некоторых произведений остается скрытой, доступной немногим.