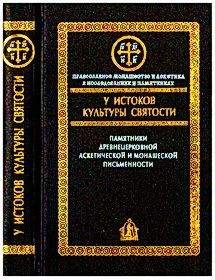Что же касается своеобразных черт «Лавсаика», то это сочинение, по характеристике И. Троицкого, «вовсе — не путевые записки, а почти бессистемный (иногда, впрочем, но только в частных случаях… есть и система) — сборник разнообразных нравственно–назидательных сказаний о мужах и женах, — сказаний, заимствованных из нескольких источников: устных и письменных источников и, личных впечатлений автора. Или: это исторические мемуары, записки о прошлом, но они имеют своей целью — не сфотографировать только действительные фадты и явления и их историческую обстановку, а желают тем самым дать еще и назидательную картину, научить. Впрочем, допустим даже, что автор фотографирует, но — необходимо заметить — с весьма большим разбором, направляя свое внимание только на некоторые стороны жизни известного лица, давая доступ в свой труд только тому, что запечатлено характером поучительности»[283]. Эта поучительность данного памятника имеет особый оттенок, поскольку он научает высшему любомудрию. Если история, по словам Дионисия Галикарнасского, есть. подлинная философия, преподаваемая посредством примеров, то «Ладсаик» Палладия является трактатом по аскетическому богословию, которое преподается посредством повествований о святых подвижниках[284]. Значение «Лавсаика» для понимания истории и самого духа древнего иночества, бесспорно, очень великб: автор его «имел весьма широкое знакомство с ревнителями аскетизма в разных странах, и Лавсайк заслуживает внимания прежде всего даже с этой чисто–внешней стороны,>как исторический документ, имеющий не местное только, а большое общее значение, — свидетельствующий о чрезвычайно быстром внешнем росте и, так сказать, географических успехах аскетизма: последний — как оказывается — к этому времени, широко раскинувшись, весьма процветал в Египте, у себя на родине — куда, как и естественно, Палладий обращает свое главное внимание, — успел уже захватить в сферу своего влияния и несколько областей Азии, а затем проник и в Европу — в Рим, всюду быстро укореняясь и делая большие завоевания. Как оказывается, эфиопы и копты, греки, иудеи, сирийцы, римляне, испанцы, — одним словом, люди различных национальностей, государственные сановники, купцы и земледельцы, богачи и нищие, т. е. люди различных социальных положений, люди всех слоев общества, мирные граждане и разбойники, мужчины и женщины, — все, кому не хотелось жить только так, как живется, у кого сердце томилось желанием лучйего, все внесли свою долю в это новое дело. И довольно тщательная и беспристрастная регистрация этого движения в его целом составляет несомненную заслугу Палладия»[285].
Если же обратиться к двум другим «монашеским повествованиям», то можно констатировать, что у исследователей не возникает никаких сомнений относительно значимости их, однако чисто литературные и текстологические проблемы, связанные с этими памятниками, породили довольно оживленную дискуссию. Она преимущественно разгорелась вокруг вопроса относительно взаимоотношения двух версий (греческой и латинской) «Истории монахов». Еще до публикации греческого текста «Истории египетских монахов» не раз высказывалось предположение, что Руфин был не автором «Истории монахов», а лишь переводчиком какого–то греческого сочинения[286]. Но когда Э. Пройшен в 1897 г. впервые издал греческий текст[287], то он очень решительно высказался в пользу того предположения, что Ру–фин был создателем «Истории монахов»[288], а греческая версия является только переводом и переработкой латинского оригинала[289], причем эта переработка касалась как формы, так и содержания изначального текста[290]. Анонимный автор (или переводчик) греческой версии, по мнению ученого, тождественен тому диакону Марку, о котором писал Прокопий Газский, и создана данная версия в первой трети V в.; сочинение же Руфина датируется приблизительно 402–404 гг.[291] Однако данная гипотеза Э. Пройшена встретила достаточно серьезный и аргументированный отпор со стороны такого крупного знатока истории древнего иночества, как К. Батлера[292]. Он однозначно полагает, что греческая версия «Истории монахов» является изначальной, а латинская — вторичной[293].
Выводы английского ученого поддержали и другие исследователи, среди которых был И. Троицкий, считавший, что «гипотеза авторства Руфина в отношении Hm. («Истории монахов». — А. С.) должна быть отвергнута»[294]. В определенной степени черту под названной дискуссией подвел А. Фестюжьер[295], издавший и критический текст «Истории египетских монахов»[296]. После его работ первичность греческой версии, описывающей путешествие палестинских монахов по Египту в 394–395 гг., представляется уже почти несомненным фактом[297]. Окончательную точку в научном обсуждении проблемы взаимоотношения текстов двух рассматриваемых памятников поставило вышедшее недавно, критическое издание «Истории монахов» Руфина. В предисловии Е. Шульц–Флюгель, подготовившей данное издание, констатируется, что греческая версия, написанная в жанре «дневника путешествия», представляет собой компиляцию, опирающуюся на достаточно разнообразный материал предшествующих источников, как письменных, так и устных (из этого материала черпал сведения и Созомен для своей «Церковной истории»), среди которых, действительно, имелся и вариант неких «путевых заметок» палестинских иноков, посетивших Египет. Эта компиляция (причем, отмечается наличие еще одной ветви рукописной традиции ее, не учтенной А. Фестюжьером) послужила основой для многих переводов на различные языки (сирийский, коптский, древнеславянский и пр.), в том числе, и для анонимного латинского перевода, который был переработан и литературно оформлен Руфином. Таким образом, его «История монахов», имеющая своей целью распространение идеалов восточного иночества на латинском Западе, является одним из этапов длительной литературной эволюции памятника[298].
Что же касается содержания «Истории монахов», то почти все исследователи отмечают простоту и беспретенциозность его. Таю И. Троицкий, сравнивая этот памятник с «Лавсаиком», говорит: «В самих повествованиях о различных подвижниках личности самого автора совершенно не видно из–за описываемых событий: он скрывается от нас, пря–чется>ρ толпу; «видели мы» такого–то подвижника, видели и другого удивительного, мужа с таким–то именем, пришли туда–то. И это постоянное однообразное безлично–собирательное «видели мы» продолжается через всю книгу от начала до, конца, являясь как бы спасительными ширмами для смиренно–боязливого. автора. Он всецело и неизменно стоит на строго–исторической почве объективности и безличия. Он держится как будто в стороне от описываемого и только издали наблюдает и прислушивается. Сам лично он как будто бы и не говорил ни с кем из подвижников, которых он посетил вместе с другими, а только присутствовал при разговоре других. Итак, он не оставил здесь своих следов; и история совершенно не знает его, или забыла его»[299]. Вместе с тем, именно подобное смирение, и даже самоуничижение, автора (а, точнее, компилятора) позволяет ему точно отобразить жизнь и внутренний настрой древних иноков, что делает «Историю монахов» ценнейшим памятником, освещающим начальный этап развития монашества и становления православной духовности. Однако вряд ли следует отождествлять подобное авторское смирение с безликостью, ибо личность создателя сочинения проявляется в подборе материала, компоновке его и в ясно выраженной мировоззренческой тенденции, определяющей данную подборку и компоновку. Эта тенденция находит свое концентрированное выражение в цели, имея в виду которую и создавалось произведение: назидательности, что опять роднит «Историю монахов» с «Лавсаиком». По характеристике того же И. Троицкого, в анонимном сочинении «должно видеть только ряд нравственно–назидатель–ных повестей, а не какое–либо чисто–историческое произведение и даже не ряд биографий некоторых особо известных тогда лиц. Указанные нравствен–но–учительные стремления автора заставляли его идти совершенно самостоятельной дорогой — что называется — не уклоняясь ни надесно, ни налево в упомянутом смысле; т. е. как из жизни како–го–либо подвижника автор выбирает только то, что могло доставить какое–нибудь, назидание, или достоподражательный пример, так и история, не составляя для него предмета специальных забот, является в его произведении только в качестве неизбежной обстановки, внешней формы, или некоторой рамки, в которую вставлены и смотрят на нас портреты и аскетические фигуры подвижников Египта»[300]. Но именно. такое постоянное попечение о духовной пользе читателей, вкупе с безыскусственностью изложения, сделало на протяжении веков «Историю монахов» любимым чтивом для многих и многих тысяч христиан самых разнообразных национальностей и самого различного социального положения.