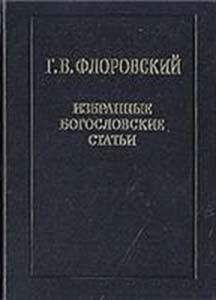Подлинное творчество, подлинно новое всегда «необъяснимо». Мутационные взрывы, искривления наследственных путей — всегда остаются за пределами рационального осознания. Но значит ли это, что они «беспричинны», что к ним не ведет, не вело никакое «прошлое»? Мир — «космичен» (не хаотичен) не для одного разума. «Импровизации» имеют свою имманентную необходимость. Творчество, как и бытовая переимчивость, имеет свои традиции. Но эти культурные связи постигает не разум, не дискурсивный анализ, а чувство, сгущающее века в миг единый. В мистической интуиции схватывается зараз, «что есть, что было, что грядет во веки» в их подпочвенной таинственной связи. В мистическом чувстве ощущается и сознаются «народ–богоносец», «Святая Русь», «православный Восток» и «безбожный Запад». И религиозно–просветлённый взор видит под конструктивною преемственностью бытовых картин трагическую мистерию исторической жизни, воспринимает мир как непрестанную борьбу веси Божией с градом Антихриста — борьбу, тяготеющую к апокалиптическим катаклизмам, как веками разыгрывающуюся единую драму; он схватывает культурно–психологические преемства свои и своих врагов, он чувствует себя в определенном русле. Но это «прошлое» незримо и не гнетет настоящего и будущего слепой неотразимостью Рока. В этой мистерии священнодействуют свободные служители идеалов, — правда, в благодатном общении между собой.
Раскрывающиеся в интимных созерцаниях идеалы и предчувствия будущего становятся подлинным стимулом культурного творчества и жизни, — но не в качестве исчерпывающей программы действий или непогрешимой regula vitae, а в виде вдохновляющей веры, любовью споспешествуемой. Центр тяжести всецело переносится в глубь личности. Будущее становится причиною настоящего, по вещему слову Заратустры. Много ли, мало ли поколений жило до меня, стою ли я в «чистой» или в «гибридной» линии — безразлично: внутренний «внеисторический» голос, а не генеалогические выкладки говорит «куда идти»… «Кто открыл землю: «человек», — говорил Заратустра, — тот открыл и землю «человеческого будущего»…
Здесь глубинное, можно сказать, интуитивно–мистическое средоточие «неисторического» восприятия мира. Не vis a tergo [27] «жизненного порыва», не бесчисленный сонм предыдущих поколений, не непреодолимые навыки движут «культуру» и творчество впредь, а свободно избранный идеал призывно влечет его вдаль…
Печатается по первой публикации в сб.: «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». София, 1921, кн.1, с.52–70
ПОСЛУШАНИЕ И СВИДЕТЕЛЬСТВО
В экуменическом движении мы встречаемся как христиане. Встречаемся во имя Христово. Но встречаемся мы как «разделенные христиане», с полным сознанием нашей взаимной разделенности, наших «несчастных разделений». Больше того, мы рождаемся в этот разделенный Христианский мир, мы вовлечены в этот Христианский раскол, прежде чем мы знаем о нем, прежде чем мы отдаем себе отчет в его существовании и смысле. И это создает главную трудность нашего Христианского положения в мире. Никто не стремится быть сектантом, членом секты. Христиане разных исповеданий или толков хотят быть христианами, не членами секты, но членами именно Церкви, Единой, Святой, Кафолической и Апостольской, и часто как раз для этой цели выделяются и отделяются, уходят в раскол. Проблема сейчас стоит острее, чем во времена религиозного индивидуализма, когда она решалась довольно просто. Тогда можно было утверждать, что религия, и в том числе Христианство, было «частным делом» каждого, — еine Privatliche, — как то часто заявлялось в прошлом веке и вне всех вероисповедных границ. Границы эти тогда могли легко быть перейдены или просто оставлены без внимания. Предполагалось, что вполне можно было быть Христианином, не принадлежа ни к какой Церкви. Устанавливалось не только различие, но и прямое противоположение между Христианством и Церковностью. Странным образом, в то время даже церковные люди не осознавали своей собственной церковности, считая ее как бы чем–то случайным, «чисто историческим», относительным, условностью исторического положения.
Противополагались «вера» (или «дух Христианства») и «Церковь», как установление или учреждение, и этот «институционный» аспект христианского бытия рассматривался как нечто человеческое, и «слишком человеческое», и потому второстепенное и относительное. Вероятно и сейчас многие, и даже значительное большинство, все еще придерживаются этой точки зрения, по крайней мере для самих себя, для личного самооправдания, хотя бы, в то же время, они охотно сохраняют традиционный строй своих отдельных «исповеданий», по разным причинам, по привычке и моде, как унаследованный бытовой уклад, или по мотивам эстетическим, или социальным. «Внешняя» структура церковности воспринимается часто как почтенная историческая традиция, которую следует и должно сохранять, хотя бы и без подлинной «веры в Церковь». В наше время, однако, этот индивидуалистический подход к вопросам веры, который практически может сочетаться с острой конфессиональной нетерпимостью и даже высокомерием, становится все более трудным. По удачному выражению одного современного протестантского богослова, в наше время христиане вдруг вновь «открыли для себя Послание к Ефесянам», то–есть — ощутили реальность Церкви. Может быть, в этом утверждении есть преувеличение.
В действительности далеко не все сделали это «открытие», и не все его осозналн. Иные осознали Божественное измерение Церкви другим путем. Но, в общем, «соборная» или корпоративная природа христианского бытия все более становится очевидной в последние годы. Если уместно сослаться на мой личный опыт, я припоминаю одну мелкую, но характерную подробность. Почти сорок лет тому назад в одной из моих статей я выразился так: «Христианство есть Церковь». Тогда эта фраза показалась странной, слишком сильной и преувеличенной. Теперь она прошла бы незамеченной — сейчас это почти что «общее место», нечто почти что самоочевидное. Это не значит, конечно, что все последствия такого утверждения ясно осознаны. Да и самая фраза может быть понята и истолкована поразному. Вполне она может быть усвоена только в полном контексте христианского исповедания, в контексте церковной веры. Впрочем, и с чисто исторической точки зрения очевидно, что с самого начала Христианство существовало как Церковь, то есть как «общество» или община верующих, соединенных между собой не только единством взглядов или убеждений, но прежде всего общей верностью живому Господу, Спасителю мира, и жизнью «во Христе». Церковь была установлена самим Христом, еще «во дни Его плоти», даже до Его искупительной смерти и Воскресения. Или даже Церковь была им восстановлена, внутри Израиля, избранного народа Ветхого Завета, как «мессианская община», как «верный остаток», как «малое стадо», по выражению самого Спасителя. И это «малое стадо» было организовано Им самим, через избрание Двенадцати и других, которым была дана «власть».
В самом Евангелии существование Церкви предполагается и чувствуется. Это не книга для отдельные лиц, а книга для Церкви, и книга Церкви. Верующие становятся христианами, когда они входят и включаются в Церковь. Но именно здесь возникает главный вопрос. Допустим, все сказанное верно, как исторический факт, в плане исторической и человеческой действительности. Нет сомнения, Церковь от начала является исторической формой христианского бытия. Но принадлежит ли Церковь самому существу этого христианского бытия, есть ли она нечто большее, чем «историческая форма»? В прошлом веке было легче верить в некую «Невидимую Церковь», и отвлекаться от исторических форм. В наше время труднее всего верить именно в эту «Невидимую Церковь» и выходить за пределы ее исторического измерения. Церковь, как историческое явление, стала совершенно очевидной, и обладает сейчас большой притягательной силой. На первый взгляд, такое утверждение может показаться нарочитым парадоксом.
Верно ли, в самом деле, что теперь, в разделенном христианском мире, так ценят, по–новому, исторические формы? Так ли это! Не наоборот ли! С торопливыми обобщениями нужно всегда быть очень осторожным. Но достаточно привести один, весьма характерный и убедительный пример. В разных современных переговорах между протестантскими исповеданиями, о единстве и соединении церквей нередко высказывается мысль, что известные исторические факты и формы исторического строя должны быть положены в основу единства, хотя при этом богословское истолкование этих форм строго исключается. Имею в виду прежде всего так называемый «Исторический епископат», который был установлен или восстановлен, через посредство Англиканской церкви, и новосоединенной «Церкви Южной Индии». Епископат может быть здесь не больше, чем исторической формой, историческим установлением, частицей человеческого предания, и все же он принимается как база единения и единства. Природа его и характер могут быть, с полной свободой, по разному определяемы в новой церкви. Гораздо меньше внимания уделяется единодушию в вере. Ссылаюсь на этот пример не затем, чтобы набросить тень на «Церковь Южной Индии», о которой много доброго было сказано даже некоторыми выдающимися богословами Римской Церкви, как о начинании благородном и многообещающем в экуменическом плане. С такой положительной оценкой я не могу согласиться. Но в данном случае, для нас важно только то, что «учреждение» очевидно поставлено выше или прежде «веры» — единство в учении сведено к минимуму, а «исторические формы», и именно как «исторические», сделаны обязательными. Правда, такой подход не так уже парадоксален в конкретном положении так называемых «молодых церквей», выросших из недавнего протестантского миссионерства. В этом конкретном положении противоречия «разделенного христианства» становятся патетически очевидными. Протестантские миссионеры в колониях и в других странах не имели прямого намерения обращать туземцев в «секты». Они искренно, по своему разумению, хотели привести их ко Христу и приобрести для Его Церкви. Но на деле их обращали в «исповедания», разные и разделенные между собой, и нередко в противоречии и борьбе друг с другом. И такое положениее не могло не отразиться и на миссионерской деятельности, как Православной, так и Римской Церкви. «Разделенный Христианский мир» распространялся и в тех странах, где причины и смысл этого разделения были неизвестны и непонятны. Именно на этом миссионерском поле грех разделения становился вопиюще ясным. Именно на этом поле впервые была осознана «экуменическая необходимость» единства, и впервые прозвучал зов к единению. В историческом положении «молодых церквей» ударение было естественно поставлено именно на внешнем или организационном единстве. «Единство» было выставлено как особая тема и как первичная и первоочередная задача и цель. Действительно, это была острая тема. В итоге «свидетельство» было сведено к «основным» положениям христианского благовестия, к «провозглашению Слова», к проповеди одного Евангелия.