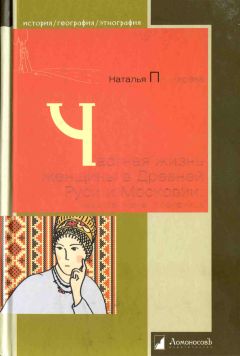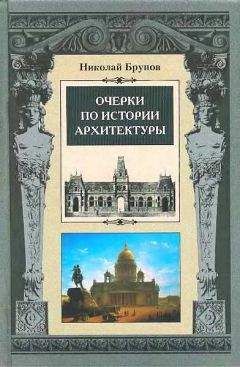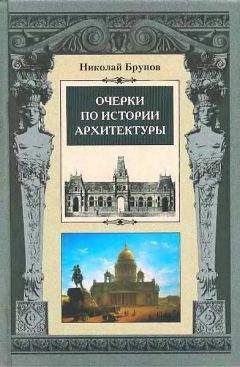Формула «матушка–сыра земля» устойчива в фольклоре, житийных и воинских повестях. «Плачи земли» по своим детям, переживающим социальные, военные, природные бедствия и невзгоды, запечатлены в «Слове о погибели русской земли», житийной повести о Меркурии Смоленском, «Сказании о Мамаевом побоище», духовных стихах («О непрощаемом грехе»: сам Бог утешает скорбящую землю и обращается к ней: «матушка–сыра земля»[134]®. В переводных апокрифических сочинениях («Хождение апостола Павла по мукам», «Прении между землей и морем»), вошедших в сборники «Златоструи», та же тема. Если принять во внимание апокрифическое «Хождение Богородицы по мукам», то возможно предположение об ассоциации Земли с Богородицей в народном сознании.
Житийная литература, как и вообще культ святых, привлекает внимание как одно из явлений поступательного развития духовной культуры. Сопоставление эпического и агиографического жанров показало, что последний вносил долю прогресса в духовную жизнь общества. Именно долю, и скромную, но существенно–важную. Между тем мир эпоса был внецерковным и внерелигиозным в коренном отличии от мира агиографического. Правда, былинные богатыри порой сшибают маковки с церквей, закладывают нательный крест, чтобы пображничать, как это делал Илья Муромец, не веруют «ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай», как Василий Буслаев. Но в общем для эпоса такие элементы не характерны, а вышеприведенные исключения в результате тщательного комментария нейтрализуются.
Мир эпоса вовсе не антирелигиозен. Он и не мир светской культуры, не результат секуляризации общественной мысли. На лестнице исторического развития духовной культуры эпический мир занимает нижележащую ступень по отношению к христианскому миру.
Культ святых имел опору в очень давних религиозных традициях. Б. А. Успенский проводит параллель между «излюбленными новгородскими святыми» Николой, Ильей, Георгием, Фролом, Лавром, Власием, Параскевой и Анастасией, с одной стороны, и Перуном, Волосом, Мокошью — с другой стороны[135]. В редукции святых к языческим божествам есть, думается, элемент исследовательской увлеченности. Но в основе верно, что сонм святых генетически был связан с политеизмом народных верований. Именно это и превращало культ святых в узел связи христианства и народных верований. Культ святых имеет и то значение, что он составил наиболее приемлемую форму для усвоения населением отвлеченных начал христианства. То личностное начало, которое характерно для христианства и действительно продвигало вперед духовную культуру как своего рода культуру духа, воспринималось в живых олицетворениях. Народное сознание в период средних веков как в России, так и в странах Запада, не чуждалось «сверхъестественного», но лишь при условии, чтобы и «сверхъестественное» обладало «естеством», доступным человеческим чувствам. Таков был извилистый и тернистый путь, приводивший в результате к той или иной степени индивидуализации человека, его личностного становления.
Человек усвоил понятия об аде и рае, но предъявил к ним свои требования: небо и преисподняя не должны были быть герметизированными, но быть проницаемыми, а все, что они заключали, подлежало испытанию чувствами. Так, некто Даниил в 1525 г. был подхвачен ангелами и оказался в раю, где увидел своего духовного наставника Александра Свирского и побеседовал с ним. Рай же был «град чуден, от злата чиста и многоценного камения устроен». Из рая Даниил вернулся на землю и от всего увиденного восемь дней замертво пролежал «на одре своем»[136]. Какую‑то девицу, пристрастившуюся к песням и пляскам, ночью похитили бесы и унесли в «геенну». Там несчастную «палили» огнем, а в заключение «един демон главню ей горячую в уста ее вонзе». Девица, очнувшись на своем ложе, стала кричать не своим голосом. После исповеди у священника (и испытания «геенной») девица отказалась от своих пристрастий[137]. Можно было и по собственному желанию попасть в преисподнюю и вернуться на землю. Некий человек, страдая мучительною болезнью, молил Бога о смерти. Явившийся ангел предложил выбор: либо терпеть болезнь еще «лето едино», либо же отправиться на три дня в преисподнюю. Больной выбрал преисподнюю. Но пробыв там день (душой, не телом), взмолился, чтобы к нему вернулась болезнь, лишь бы не испытывать адовых мук. Его мольбе вняли, душа вернулась в тело, человек воскрес[138]. Испытанию чувствами подвергался и сам дух. В представлениях того времени и он обладал естеством, и он был «отягощен материей», даже если это был Святой дух. В апокрифическом «Поучении… Василия Кисарицкого» читаем обращение Богородицы: «Василие, тя зря и смотрю — не могу зрети и смотрити злаго человека блуднаго, и беззаконаго смешения и лютаго злаго хмельнаго дыхания, занеже той злы дух хмельны изгоняет Святаго духа> аки дым от улья–пчелы»[139]. Это Поучение издано публикатором по списку второй четверти XVIII в. Сходный мотив содержится в легенде «О ляхе и пресвитере», датируемой началом XVII в. и точно локализованной: «В Новоторжском уезде пустыня есть нареченная Каменка; в той пустыне церковь пресвятая Богородицы. Во время разорения московского от безбожных ляхов нашествие бысть и на сию п/стынь…». Один из нашествователей осквернил икону Богородицы и алтарь. Священник воззвал к Богородице: «Почто попустила сему окаянному ту свою святую церковь осквернити?..» — Ответила: «О пресвитере! Сей безстудный пес за свои деяния зле погибнет;
тебе же глаголю:…ввечеру упиваешися до пияна, а заутра служиши святую литургию и пред сим моим образом отрыгавши оный гнусный пиявственный свой дух, и лице мое сим зело омерзил ecu, паче блуднаго поганника»[140].
Видимо, святой дух в представлениях верующего населения напоминал собой «злой дух хмельной», только вывернутый наизнанку.
Жития святых отвечали уровню сознания верующих, с трудом овладевавших отвлеченными идеями христианства. При всем том житийная литература обращалась к различным слоям общества, откликалась, как показал еще А. Кадлубовский, на актуальные проблемы, обсуждавшиеся русскими публицистами XV и XVI вв. Выделим из нее то, что соотносилось с трудом, бытом, жизнью крестьянства. От житийной легенды «О пророчестве преподобнаго отца Варлаама о снегу и мразе в Петров пост» (первоначальная редакция XIII в.)[141]^ и вплоть до житийной повести об Антонии Сийском поздней редакции (в тексте имеется указание на 1672 г.) проходит тема заботы о земледельце, обнаруживающая (сквозь многие жития) точное знание условий и факторов, воздействующих на сельскохозяйственное производство. В двух названных житийных повестях содержатся описания плодоносящей земли и влияния погодных условий, конечно не оставлявших равнодушными сердца земледельцев, и не только потому, что в них проявлена забота об урожае, но по тональности, согретой любовью к плодоносящей земле, земледельцу и трогательной безыскусности (особенно в первой из них). Во многих житиях XV и XVI вв. описаны разные явления природы в духе народного мировосприятия и с точки зрения насущных интересов земледельца. Для большинства житийных повестей характерно изображение святых как тружеников, занимающихся крестьянским хозяйством. Отвечали ли действительности эти образы? По–видимому, не всегда, но отвечали. В нашем контексте важно знать, какие требования предъявляли к святым люди труда. Крестьянин навязывал святому свой трудовой идеал. В крестьянских понятиях подлинный нимб святого — это ореол труженика. Обратимся снова к «поселянину», который, впрочем, несмотря на отступления, неизменно оставался в фокусе наших историко–культурных экскурсов.
В житийной повести о Сергии Радонежском, написанной Епифанием Премудрым в 1417—1418 гг., содержится рассказ «О некоемом поселянине». К святому явился «поселянин, чином орачь, земледелець, живый на селе своемь, орый плугом своим и от своего труда питаася…«[142]. Поселянин застал Сергия за земледельческим трудом. Святой оторвался от работы, пошел навстречу поселянину: «не дождав от него (поселянина. — А. К.) прежде поклояениа, но сам прежде предварив, приступль на целование земледелче, со тщанием же и спешаше, и с великым смирениемь поклонися ему до земли…«[143] Согласно Епифанию, Сергий был не только земледельцем, но еще и дровосеком, плотником, мукомолом, швецом, сапожником, пекарем, поваром — ничего из трудового обихода крестьянина не пропущено автором в описании героя жития. Для Епифания собственноручный труд Сергия как святого имел принципиально–ценностное значение. Это следует из рассказа о действиях Сергия в дни голода, когда он подрядился за хлеб плотничать у некоего Даниила, тоже монаха. Тот немедля вынес Сергию лукошко с хлебом. Оно не было принято: «…аз бо преж даже руце мои не поработаете и преж труда мзды не приемлю»[144]. В этот же ряд социально–нравственных понятий вписывается рассказ Епифания «О худости порт Сергиевых…», противопоставляющий простую и ветхую одежду святого роскошным одеяниям иерархов церкви[145].