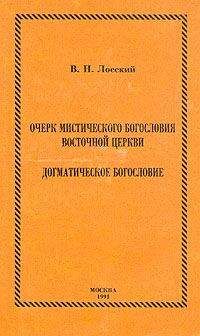Все содержание и тон этого письма, в котором нет никакого озлобления, предвещает, что в душе Достоевского начнется на каторге углубление религиозной жизни в духе христианства, не сектантского, а примирительно–церковного, стремящегося к всеобъемлющему синтезу.
11 января Достоевский, Дуров и Ястржембский были привезены в Тобольск и шесть дней прожили в остроге в ожидании отправления на каторгу в Омск. Большое впечатление произвело здесь на Достоевского
«Дневник Писателя», 1873, «Одна изТэдвременных фальшей».
46
тайное свидание на квартире смотрителя острога с женами декабристов — Муравьевой, П. Е. Анненковой с дочерью ее О. И. Ивановой и Н. Д. Фонвизиной.
«Они благословили нас в новый путь, — рассказывает Достоевский, — перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой на каторге. Я читал ее, иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного» («Дн. Пис.», 1873, II).
Была еще у Достоевского Библия, посланная ему братом в крепость и взятая им с собою, но ее у него вскоре украли, а Евангелие, полученное от жен декабристов, он сохранил на всю жизнь и постоянно пользовался им.
Каторжане из простонародья встретили петрашевцев–дворян чрезвычайно враждебно, не желая признать в них товарищей по несчастью.
«Вы дворяне, железные носы, нас заклевали, — говорили они. — Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал» — вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали и неподклонимостью их воле. Они всегда сознавали, что мы выше их. Понятия об нашем преступлении они не имели. Мы об этом молчали сами, и потому друг друга не понимали, так что нам пришлось выдержать все мщение и преследование, которым они живут и дышат к дворянскому сословию» (Письмо к Михаилу, № 60, 22.11.1854, из Омска, после четырех лет каторги перед отъездом в Семипалатинск на службу рядовым в 7–м Сибирском линейном батальоне).
Первый год каторжной жизни, пока Достоевский не освоился с положением и жил почти в совершенном отчуждении от людей, был для него особенно тяжел. В эту пору, без сомнения, церковь была для него источником утешения и глубоких, возвышающих душу впечатлений. В «Записках из мертвого дома» он, очевидно, говорит о себе, рассказывая о говений во время Великого поста.
«Неделя говенья мне очень понравилась. Говевшие освобождались от работ. Мы ходили в церковь, которая была неподалеку от острога, раза по два и по три в день. Я давно не был в церкви. Великопостная служба, так знакомая еще с далекого детства, в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны, — все это расшевеливало в душе моей далекое–далекое минувшее, напоминало впечатления еще детских лет» '.
Для лица, возвращающегося к церкви после временного отпадания от нее, особенно важно. восстановление связи с впечатлениями детства, проникнутого светлою верою в Бога и сверхземной мир. Не меньшее значение имело для Достоевского сочетание глубоких впечатлений, даваемых церковью, с теми настроениями русского народа, которые он называет «народною правдою». «Причащались мы за ранней обедней. Когда священник с чашей в руках читал слова: «…но яко разбойника мя
«Записки из Мертвого дома», II, 5
47
приими», — почти все повалились в землю, звуча кандалами, кажется, приняв эти слова буквально на свой счет».
Большое впечатление производила на Достоевского также подача арестантам милостыни Христа ради. Вскоре после прибытия в острог, когда Достоевский возвращался с работы, сопровождаемый конвойным, его догнала девочка, шедшая с матерью, — вдовой–солдаткой, и сунула ему в руки копеечку, говоря: «На, несчастный, возьми Христа ради копеечку!» Эта–подача милостыни народом и просьба дать ее «Христа ради» давно уже привлекала к себе внимание Достоевского. В «Бедных людях» Макар Алексеевич Девушкин говорит о том, как различно звучит это «Христа ради» в устах различных просителей.
В казарме рядом с Достоевским на нарах помещался дагестанский татарин Алей двадцати двух лет. Это был чистый сердцем юноша, неспособный к преступлению; старшие два брата его, отправляясь на разбой, приказали ему ехать с ними, не сказав ему, что они замышляют. Вместе с братьями, совершившими преступление, и он был отправлен на каторгу, правда, на более короткий срок. Достоевский научил его читать по Евангелию.
«Однажды, — рассказывает он, — мы прочли с ним всю Нагорную проповедь. Я заметил, что некоторые места в ней он проговаривал как будто с особенным чувством.
Я спросил его, нравится ли ему то, что он прочел. Он быстро взглянул, и краска выступила на его лице.
— Ах, да! — отвечал он, — да. Иса святой пророк, Иса Божие слова говорил. Как хорошо! -'
— Что же тебе больше всего нравится?
— А где Он говорит: «Прощай, люби, не обижай, и врагов люби». Ах, как хорошо Он говорит!
Он обернулся к братьям, которые прислушивались к нашему разговору, и с жаром начал им говорить что‑то. Они долго и серьезно говорили между собою и утвердительно покачивали головами. Потом с важно–благосклонною, т. е. чисто мусульманскою, улыбкою (которую я так люблю, и именно люблю важность этой улыбки) обратились ко мне и подтвердили, что Иса был Божий пророк и что Он делал великие чудеса».
Отбыв срок каторги, но живя еще в Омске в ожидании отправки в Семипалатинск для службы там рядовым, Достоевский написал замечательное письмо Н. Д. Фонвизиной, одной из тех дам, жен декабристов, которые подарили ему Евангелие в начале каторги. Фонвизина в это время уже вернулась в Европейскую Россию, и Достоевский высказывает мысль, что, вероятно, изгнанник при возврате на родину переживает «вновь, в сознании и воспоминании, все свое прошедшее горе». В связи с этим он открывает интимные и глубокие черты своих религиозных переживаний: «Не потому, что вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу вам, что в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая», веры и находишь ее собственно потому, что в несчастьи яснеет истина. Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже до гробовой крышки. Каких страшных
48
мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие‑то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (№ 61, февр., 1854).
Воспоминания детства, любовь к русскому народу и к «народной правде», тесно связанной с православными верованиями, любовь ко Христу и пережитые несчастья — все эти мотивы привлекли Достоевского к Церкви, однако предстояла еще длительная внутренняя работа, дальнейший опыт и общение с людьми раньше, чем он начал отстаивать именно православие как высшее выражение религиозной жизни. После каторги православная религиозная литература начинает занимать особенно видное место в чтении Достоевского. В письмах к брату Михаилу он не раз повторяет просьбу присылать ему творения Отцов Церкви и историю Церкви. Между прочим, он просит также прислать ему Коран, вероятно, вспоминая об Алее и его братьях. В 1856 г. он уже делает заметки к статье «О значении христианства в исскусстве» (№ 79). В письмах его опять постоянно встречаются замечания такого рода, как «всё от Бога и у Бога» (№ 63) или «всё в руках Божиих, а я, надеясь на Бога, не задремлю и сам» (№ 92) и т. п. В 1857 г. в письме к сестре он сообщает о том, что говел и исповедовался (№ 95).
В Семипалатинске Достоевский пережил однажды перед началом эпилептического припадка живое восприятие бытия Бога. Лет через десять он рассказывал об этом событии"сестрам Корвин–Крюковским и младшая из них София (Ковалевская) ярко передала этот рассказ. К Достоевскому в ночь перед Светлым Христовым Воскресением ириехал старый товарищ, и они всю ночь пробеседовали; говорили «о литературе, об искусстве и философии; коснулись наконец религии. Товарищ был атеист, Достоевский — верующий, оба горячо убежденные каждый в своем. «Есть Бог, есть!» — закричал наконец Достоевский, вне"себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светло–христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался. «И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! — закричал я, — и больше ничего не помню» '.