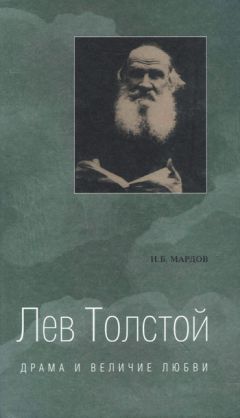Я полагаю, мы достаточно ясно показали, что сходство с реальностью или подражание ни в коей мере не есть цель искусства, но что тем не менее наше искусство способно создать свой собственный мир, свою автономную «поэтическую реальность», лишь выбрав определенные формы. Таким образом, оно сходно с реальными вещами, и сходство это более глубокое и мистическое, чем при простом копировании.
«Образ, — пишет Реверди, — это чистое творение ума. Он рождается не из сравнения, а из сближения двух более или менее удаленных сфер… Сила образа не в том, что он эффектен или необычаен, а в том, что находит точную ассоциативную связь очень далеких друг от друга вещей… Из сравнения (всегда весьма приблизительного) двух не сопрягающихся сфер не получится образа. Сближая же, без всякого сравнения, две раздельные сферы, связь между которыми постижима лишь уму, мы создаем сильный, новый образ».
Эти слова следует иметь в виду, рассматривая современную поэзию и поэзию вообще. Образ в таком истолковании есть нечто противоположное метафоре, которая сравнивает одну известную вещь с другой, чтобы лучше выразить первую, скрывая ее за второй. Образ же открывает одну вещь с помощью другой — и одновременно их сходство, — он позволяет познать неизвестное. Мы уже говорили об этом более обобщенно (Petite Logique, N 20): «Самые яркие и неожиданные поэтические образы возникают, быть может, из трудностей, которые испытывает человек, когда желает высказать и при этом буквально показать самому себе самые обычные вещи с помощью образных средств языка, — трудностей, которые и заставляют его обогащать эти средства». См.: Jean Paulhan. Jacob Cow, ou si les mots sont des signes.
Да, слова — это не только звуки, но и знаки, в разговоре мы заменяем ими вещи, которые в данный момент отсутствуют (Аристотель. О софистических опровержениях, I), потому на заре человеческой речи слова были облечены такой огромной, страшной и магической силой; первобытные люди могли еще плохо владеть словом, но метафизический инстинкт заставлял их чувствовать природу знака и ту мистическую власть, которая дарована человеку вместе со способностью именовать. Но слова — не настоящие («формальные»), а довольно несовершенные знаки, они быстро обрастают субъективностью, каждое окрашено психологией целого народа. Длительное хождение в социальной среде замутняет их духовную сущность, превращает их из знаков в самоценные вещи, на которые ум реагирует, прежде чем вмешается смысл, который мало-помалу вовсе перестает вмешиваться. Много важных соображений высказано на этот счет в «Опыте пословицы» («Expérience du Proverbe») Жана Полана.
Недостаток Гюго в том, что он способствует этой материализации слова-вещи. На мой взгляд, поэт, хоть и использующий слова как материал для своих произведений, должен противостоять тенденции превращения знака в вещь и поддерживать или возрождать в чувственной плоти слова духовную природу языка. Именно это он делает, когда создает новые образы, кажущиеся темными, но продиктованные заботой о точности. Современная поэзия с порой доходящим до нелепости мужеством выполняет задачу очищения языка. При всей внешней противоречивости, при всех экстравагантных отклонениях, вроде недавнего дадаизма и «освобожденных слов»[110*], она устремлена к объективности, ищет лишенный фальши способ выражения, при котором дух вынуждал бы слово, с его материальным весом, неукоснительно выполнять свою знаковую функцию в замкнутом пространстве стихотворения.
Однажды на заседании Академии живописи, посвященном «Елиезеру и Ревекке» Пуссена, Филипп де Шампень посетовал, что художник не изобразил на картине «верблюдов, о которых упоминает Писание». На это Лебрен ответил, что «господин Пуссен, всегда старающийся сделать сюжет своих произведений предельно ясным и стройным и лучше представить основное действие, отбросил все причудливые детали, которые могли бы рассеять внимание зрителя, отвлечь его на незначительные мелочи». К сожалению, скатиться к напыщенной пошлости и банальности очень легко, и Делакруа имел основание сказать о том же Пуссене, «философе в живописи», что его «потому так и прозвали, что он уделял идеям больше места, чем требуется в живописи» (Variations du Beau. - Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1857; Oeuvres littéraires, I, Études esthétiques[628]). Тем не менее само предписание было полезным[628].
Нечто сходное говорил Ницше о стиле: «Чем характеризуется декаданс в литературе?. Тем, что распадается цельность жизни. Слово становится независимым и выпирает из фразы, фраза разбухает и затемняет смысл страницы, страница живет самостоятельной жизнью в ущерб целому, и целое теряет цельность. Это и есть признак декадентского стиля, непременно связанного с анархией атомов, распадом воли, "свободой личности", говоря языком морали, или, прибегая к политической лексике, "равными правами для всех". Сама субстанция жизни, ее пыл и трепет загнаны в самые ничтожные органы, — это не жизнь, а жалкие ее остатки. Повсюду усталость, паралич, каталепсия или же хаос и вражда; то и другое бросается в глаза тем больше, чем выше степень организации. А все в целом абсолютно безжизненно, это какое-то мертвое нагромождение, искусственное скопление, фиктивное соединение».
«Виктор Гюго и Рихард Вагнер, — писал далее Ницше, — явления одного плана, доказывающие, что во времена упадка цивилизации, когда господствует толпа, подлинность становится чем-то излишним, вредным, обрекает на отверженность. Только актерство вызывает восхищение. Наступает золотая пора для комедиантов и им подобных. Вагнер, с дудками и барабанами, идет во главе целой армии разного рода артистов: ораторов, толкователей, виртуозных исполнителей…» (Ницше. Казус Вагнер).
«Произведения Гюго, — записал Делакруа в 1844 г., - похожи на черновик талантливого человека: он говорит все, что приходит ему на ум» (Дневник Эжена Делакруа, 22 сентября 1844 г.).
Я раскаиваюсь в таком суждении о Стравинском. Когда писались эти строки, я слышал лишь его «Весну священную», хотя, впрочем, уже и по ней мог бы понять, что Стравинский отвернулся от всего, что нам претит в Вагнере. А с тех пор он показал, что гений не только сохраняет силу, но даже набирает, обновляет ее ясностью. Именно его на диво упорядоченная, дышащая подлинностью музыка — сегодня лучший пример творческой мощи и той самой классической строгости. Его чистота, искренность, сила духа рядом с гигантизмом «Парсифаля» или тетралогии Вагнера — все равно что чудеса Моисея рядом с волшбой египтян. [1927]
Иер 1: 6. Искусство не есть собственно познание (созерцательное), разве что оно практически познает будущее произведение; но как раз поэтому оно заменяет нам прямое духовное познание частных вещей, которым наделены ангелы. Оно выражает частное не в словесно-концептуальном виде, а в виде материального произведения, которое оно создает. Чувственным путем оно ведет художника к неясному эмпирическому восприятию (не поддающемуся умозрительному выражению) отдельных явлений, не выделяя их из цельной картины мира. «Для ребенка, — писал Макс Жакоб, — каждая личность — единственная в своем роде, для взрослого человека личность составляет часть рода, для художника она — вне рода». См. ниже прим. 140.
Св. Фома. Comment, in Psalm., Prolog.
Само по себе наслаждение чувств потребно искусству лишь ministerialiter[113*], поэтому художник поднимается гораздо выше его и свободно им распоряжается, однако же такая потребность есть.
То есть наличие того, что мы назвали выше (с. 479) вторичным материсиюм.
По замечанию Бодлера, именно в силу этих законов «картина Делакруа, даже если смотреть на нее со слишком большого расстояния, не позволяющего судить о сюжете и даже разобрать его, производит сильнейшее впечатление на душу, радует или печалит ее» (Curiosités esthétiques. Salon de 1855). В другом месте (Ibid. Salon de 1846) Бодлер пишет: «Лучший способ распознать, есть ли в картине гармония, это взглянуть на нее издалека, так что ни линии, ни фигуры нельзя различить. Если она гармонична, в ней все равно будет некий смысл и она западет в память».
По правде говоря, трудно определить, в чем же именно состоит это подражание-копирование, хотя понятие его кажется предельно ясным умам, довольствующимся упрощенными схемами небогатого воображения.