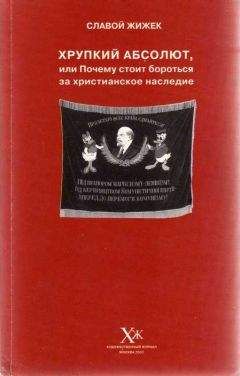Разве эта история не служит лучшим примером собственно паранойяльного удвоения? Партия должна оставаться в подполье, тайной организацией, и может появиться на людях только тогда, когда отрицает, экстернализует это подпольное существование в его жутком удвоении, в еще одной параллельной тайной партии. Не был ли этот жест 1976–1977 гг. подобием шеллинговскому акту принятия решения, которое отделяет существующую символическую реальность (официальное публичное повествование) от еще одной истории, вынесенной в несуществующее «вечное прошлое»? [32] Теперь мы также можем понять логику высшего коммунистического жертвоприношения: то, что Кео Меас сознался в измене, позволило партии стереть следы прошлых оппортунистических компромиссов и выстроить связную историю своего происхождения. Однако в свое время компромиссы эти были совершенно необходимы: настоящий герой тот, кто идет на необходимый компромисс, понимая, что в дальнейшем развитии этот компромисс отвергнут как измену, а его самого ликвидируют. Вот где высшее служение делу партии!
В этой паранойяльной вселенной понятие симптома (в смысле свойственного знака, указывающего на скрытое содержание) становится универсальным: в сталинистском дискурсе «симптом» был не только знаком некой (идеологической) болезни или отклонения от правильного курса партии, но также знаком правильной ориентации: и в этом смысле можно было говорить о «здоровых симптомах», что мы и видим в критике Пятой симфонии Шостаковича главным сталинским композитором Исааком Дунаевским: «Несмотря на совершенную технику Пятой симфонии <…>, не скажешь, чтобы она проявляла все здоровые симптомы для развития советской симфонической музыки» [33]. Почему используется слово «симптом?» Потому что никогда нельзя быть уверенным в том, что позитивная черта на самом деле является тем, чем она представляется: а что, если некто просто прикидывается верным партийной линии лишь для того, чтобы скрыть свои настоящие контрреволюционные намерения? Подобный парадокс можно обнаружить уже в христианской диалектике Закона сверх-я и его нарушения (греха): эта диалектика коренится не только в том факте, что сам Закон побуждает нарушить его, рождает желание его ниспровергнуть: наше послушание Закону само по себе противоестественно, носит спонтанный характер, всегда уже опосредовано (вытесненным) желанием нарушить Закон. Подчиняясь Закону, мы бросаем все силы на отчаянную борьбу с собственным желанием обойти его; и чем строже мы подчиняемся Закону, тем больше мы свидетельствуем о том, что в глубине души чувствуем давление желания согрешить. Так исходящее от сверх-я чувство вины показывает свою правоту: чем в большей мере подчиняемся мы Закону; тем сильнее чувство вины, поскольку подчинение является действенной защитой от нашего грешного желания, и в христианстве желание (намерение) согрешить равнозначно самому деянию: возжелав жену соседа твоего, ты уже совершил прелюбодеяние. Это христианское сверх-я, возможно, лучше всего передано в строке T. С Элиота из его поэмы «Убийство в соборе» «Последнее звучало всех подлее: Творить добро, дурную цель лелея» [34] («the highest form of treason: to do the right thing for the wrong reason»), — даже когда поступаешь правильно, то делаешь это ради противодействия и тем самым скрываешь фундаментальную подлость своей истинной природы…[35]
Возможно, что обращение к Николя Мальбраншу поможет нам лучше понять эту процедуру. Достижение Мальбранша заключалось в «объектификации»/«овеществленни» собственно этического измерения. В общепринятой версии современности этическое переживание ограничивается областью «субъективных ценностей», противопоставленных «объективным фактам». Соглашаясь с различением «субъективного» и «объективного», «значений» и «фактов», Мальбранш переносит его в пределы собственно этики, как раскол между «субъективной» Добродетелью и «объективной» Благодатью: я могу быть «субъективно» добродетельным, но при этом нет никакой гарантии «объективного» спасения в глазах Господа: распределение Благодати, которая принимает решение о моем спасении, зависит целиком и полностью от «объективных» законов, в точности соответствующих законам материальной Природы [36]. Разве не сталкиваемся мы здесь с точно такой же объективизацией в показательных сталинских процессах? Я должен быть субъективно честен, но если меня не коснулась Благодать прозрения в неизбежности коммунизма, то вся моя этическая целостность будет всего лишь мелкобуржуазной честностью, противопоставленной Коммунистическим Основам, и, вопреки всей моей субъективной честности. я навеки буду «объективно виновен». Когда от обвиняемого требовали «искреннего признания» в преступлениях (как единственного способа смягчить приговор суда), то «искренность», о которой шла речь, не имела ничего общего с психологической искренностью, она была целиком и полностью «объективирована» — «искренность» измерялась числом близких друзей и родственников, которых обвиняемый уже сдал. (И, между прочим, разве не то же самое происходило с антикоммунистическими слушаниями по делу Маккарти в Голливуде, на которых «искренность» антикоммунизма свидетеля измерялась ее или его готовностью назвать имена?) Эти парадоксы никак нельзя отбросить в сторону как простые махинации тоталитарной власти — они содержат по–настоящему трагическое измерение, которым пренебрегают обычные либеральные обличители тоталитаризма.
5. СТАЛИН-АБРАХАМ ПРОТИВ БУХАРИНА-АЙЗАКА
Как же тогда субъективируется это чудовищное положение? Как показал Жак Лакан, современные условия, характеризующиеся нехваткой трагедии, передают это положение куда более жутким образом. Дело в том, что, вопреки всем ужасам ГУЛага и Холокоста, с приходом капитализма собственно для трагедий места не остается — жертвы концентрационных лагерей или показательных сталинских процессов оказались не совсем в трагических условиях, поскольку положение их содержало комический или, по крайней мере, нелепый оттенок, а потому условия эти — еще более ужасны, причем ужас этот настолько глубок, что его уже невозможно «вознести» до трагического положения, и по этой причине его можно достичь лишь через жуткое уподобление/удвоение самой пародии. Образцовый случай такой непотребной комичности ужаса по ту сторону трагедии содержится в сталинистском дискурсе. Кафкианский характер жуткого смеха, который раздается среди публики во время последней бухаринской речи перед Центральным Комитетом 23 февраля 1937 г., связан с абсолютным расхождением между предельной серьезностью Бухарина он говорит о возможном самоубийстве, о том, что он его не совершил, дабы не нанести ущерб репутации партии, что уж лучше объявить голодную забастовку до самой смерти) и реакцией членов Центрального Комитета:
Бухарин: Я не могу выстрелить из револьвера, чтобы люди не смогли сказать, что я покончил с собой, дабы навредить партии. Но если я умру как бы от болезни, что вы тогда потеряете? (Смех).
Голоса: Шантажист!
Ворошилов: Ты — подлец! Какой подонок! Как ты смеешь так говорить!
Бухарин: Но вы должны понять — мне очень тяжело жить дальше.
Сталин: А нам легко?!
Ворошилов: Вы слышали такое: «Я не застрелюсь, а умру»?!
Бухарин: Легко вам говорить обо мне. Вы–то, в конце концов, что потеряете? Смотрите, если я саботажник, сукин сын, зачем тогда меня жалеть? Я ничего не прошу. Я лишь говорю, что думаю, что со мной. Если это влечет за собой какой–либо политический ущерб, хотя бы самый маленький, тогда, никаких вопросов, я сделаю, что скажете. (Смех.) Чего вы смеетесь? Ничего смешного нет… [37]
Разве не сталкиваемся мы здесь с воплощенной в жизнь жуткой логикой первого допроса Йозефа К. в «Процессе»?
— Значит, так, — проговорил следователь и скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал К,: — Вы маляр?
— Нет, — сказал К, — я старший прокурист крупного банка.
В ответ на его слова вся группа стала хохотать, да так заразительно, что К. и сам расхохотался. Люди хлопали себя по коленкам, их трясло, как в припадке неукротимого кашля [38].
Провоцирующий смех диссонанс здесь радикален: со сталинистской точки зрения, самоубийство лишено какой–либо субъективной аутентичности, оно просто инструментализовано, сведено к одной из «наиболее хитроумных» форм контрреволюционного заговора. Молотов ясно об этом заявил 4 декабря 1936 года: «Самоубийство Томского было заговором, хорошо спланированным актом. Томский обо всем договорился, и не с одним человеком, а с несколькими, покончить самоубийством и, тем самым, нанести удар по Центральному Комитету» [39]. Позже на том же самом пленуме Центрального Комитета Сталин повторит: «Мы видим здесь один из крайних, наиболее остроумных и простейших способов, которым можно плюнуть на партию и обмануть ее в последний раз. перед смертью, прежде чем покинуть этот мир. Такова, товарищ Бухарин, скрытая причина этих последних самоубийств» [40]. Это крайнее отрицание субъективности в открытой форме передается следующим кафкианским ответом Сталина Бухарину: