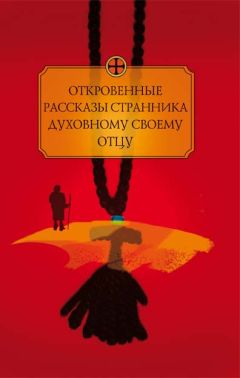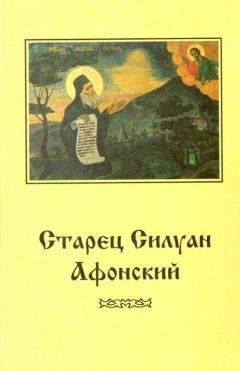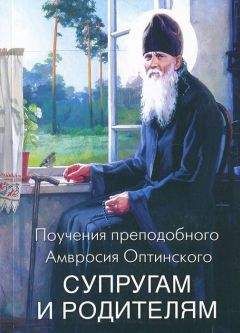По прочтении нужного из Добротолюбия, он начал усердно просить меня, чтобы деятельно показать ему способ, каким образом найти умом сердце, и как вводить в него божественное имя Иисуса Христа, и как со сладостию внутренне молиться сердцем. Я и начал ему рассказывать: вот ты ничего не видишь, а ведь можешь умом вообразить и представить себе то, что ты прежде видал, то есть человека, или какую-нибудь вещь, или свой какой-нибудь член, например, руку или ногу, можешь так живо вообразить, как бы на него смотрел, и можешь навести и устремить на него хотя и слепые свои глаза? Могу, ответил слепой. Так ты точно также вообрази свое сердце, наведи свои глаза, как бы смотрел на него сквозь грудь, и как можно живее представь его, а ушами то внимательно слушай, как оно бьется и ударяет раз за разом. Когда к сему приспособишься, то и начинай к каждому удару сердца, смотря в него, приноровлять молитвенные слова. Таким образом, с первым ударом скажи или подумай Господи, со вторым Иисусе, с третьим Христе, с четвертым помилуй и с пятым мя, и повторяй сие многократно. Тебе это удобно, ибо начало и подготовка к сердечной молитве у тебя уже есть. Потом как к сему попривыкнешь, то начинай вводить и изводить всю Иисусову молитву в сердце вместе с дыханием, как учат отцы, то есть втягивая в себя воздух, скажи, вообрази: Господи Иисусе Христе, а испуская из себя: помилуй мя! Занимайся сим почаще и побольше, и ты в скором времени почувствуешь тонкую и приятную боль в сердце, потом будет являться в нем теплота и растеплевание. Так, при помощи Божией, достигнешь ты самодействия услаждающей внутренней молитвы сердца. Но при сем всемерно остерегайся от представлений в уме, и являющихся каких-либо видов. Не принимай вовсе никаких воображений; ибо св. отцы крепко заповедуют при внутренней молитве сохранять безвидие, дабы не попасть в прелесть.
Слепой, выслушавши все это со вниманием, начал с усердием действовать по показанному способу, и по ночам, когда мы останавливались на ночлегах, он преимущественно сим занимался подолгу. Дней через пять он начал чувствовать сильную теплоту и несказанную приятность в сердце, а притом и великую охоту беспрестанно заниматься сею молитвою, которая и открывала в нем любовь ко Иисусу Христу. По временам он начал видеть свет, хотя никаких предметов и вещей не замечал в оном; иногда представлялось ему, когда он входил в сердце, что как бы сильный пламень зажженной свечи вспыхивал сладостно внутри сердца и выбрасываясь чрез горло наружу, освещал его; и он при сем пламени мог видеть даже и отдаленные вещи, как и случилось однажды.
Шли мы лесом, и он с молчанием углублен был весь в молитву. Вдруг он сказал мне: как жалко! Горит уже церковь, вот упала и, колокольня. Я сказал ему: перестань воображать пустое, это тебе искушение, надо все мечты скорее отвергать. Как можно видеть, что делается в городе? Мы от него еще за 12 верст. Он послушался, продолжал молиться и замолчал. К вечеру пришли мы в город, и я действительно увидел несколько сгоревших домов и упавшую колокольню, которая построена была на деревянных сваях, и людей, толпящихся около и удивляющихся, как упавшая колокольня никого не задавила. По соображению моему, все это несчастие произошло в то самое время, когда говорил мне о сем слепой. Вот он и начал мне говорить: ты сказал, что видение то мое было пустое, а вот оно так и есть. Как не благодарить, и как не любить Господа Иисуса Христа, который открывает благодать свою и грешникам, и слепцам, и неразумным! Благодарю и тебя, что ты меня научил сердечному действию.
Я сказал ему: Иисуса Христа любить люби, и благодарить благодари; но принимать разные видения за непосредственные откровения благодати остерегайся; ибо сие часто может случаться и естественно, по порядку вещей. Душа человеческая относительно не связана местом и веществом. Она может видеть и во тьме, и весьма отдаленное, как вблизи происходящее. Только мы не даем силы и ходу сей способности душевной, и подавляем ее или узами одебелевшего нашего тела, или запутанностью наших мыслей и рассеянных помыслов. А когда мы сосредоточиваемся в самих себе, отвлекаемся от всего окрестного и утончаемся в уме, тогда душа входит в свое назначение и действует в высшей степени, так это дело естественное. Я слыхал от покойного моего старца, что и не молитвенные люди, а или способные к тому, или болезненные, в самой темной комнате видят свет, как он исходит из всех вещей, различают предметы, ощущают своего двойника и проникают в мысли другого. А что при сердечной молитве происходит прямо от благодати Божией, то так насладительно, что никакой язык изрещи не может, и ни к чему вещественному применить и ничему уподобить того нельзя; все чувственное низко в сравнении с сладостными ощущениями благодати в сердце. Мой слепой внял сему с усердием, и еще более стал смиренным; молитва в сердце его развивалась более и более и несказанно его услаждала. Я радовался сему от всей души и усердно благодарил Бога, что Он сподобил меня видеть такого благословенного раба своего.
Наконец дошли мы до Тобольска, я привел его в богадельню, оставил там и, любезно простившись, пошел в путь свой далее.
С месяц шел я потихоньку и глубоко чувствовал, как назидательны и поощрительны бывают добрые живые примеры; часто читывал Добротолюбие, и поверял все то, что я говорил слепому молитвеннику. Его поучительный пример воспламенил во мне ревность, признательность и любовь к Господу, молитва сердца столько меня услаждала, что я не полагал, есть ли кто счастливее меня на земле, и недоумевал, какое может быть большее и лучшее наслаждение в царствии небесном. Не токмо чувствовал сие внутрь души моей, но все и наружное представлялось мне в восхитительном виде, и все влекло к любви и благодарению Бога; люди, дерева, растения, животные, все было мне как родное, на всем я находил изображение имени Иисуса Христа. Иногда чувствовал такую легкость, как бы не имел тела, и не шел, а как бы отрадно плыл по воздуху; иногда входил весь сам в себя и ясно видел все мои внутренности, удивляясь премудрому составу человеческого тела; иногда чувствовал такую радость, как будто сделан я царем и при всех таковых утешениях желал, когда бы Бог дал поскорее умереть и изливаться в благодарности у подножия Его в мире духов.
Видно, я неумеренно наслаждался сими ощущениями что ли, или уже так было попущение воли Божией, но по некотором времени я почувствовал в сердце какой-то трепет и страх. Не было бы мне, подумал я, опять какой беды или напасти, подобно как за ту девку, которую я научил Иисусовой молитве в часовне. Помыслы надвигались на меня тучею и я вспомнил при сем слова препод. Иоанна карпафийского, который говорит, что часто учивший предается в бесчестие и терпит напасти и искушения за пользовавшихся от него духовно. Поборовшись с сими помыслами, я усугубил молитву, которою отогнал их совершенно, и ободрившись сказал в себе: да будет воля Божия! готов все терпеть, что ни пошлет мне Иисус Христос за мое окаянство и гордостный нрав. Да и те, которым я недавно открыл тайну сердечного входа и внутренней молитвы, были и прежде моей с ними встречи приуготовлены непосредственным тайноучением Божиим. Успокоившись сим, я опять пошел с утешением и молитвою и радовался более прежнего. Дня два было дождливое время, и дорога так разгрязла, что едва можно было вытаскивать из грязи ноги, шел я степью, и верст 15 ни одного не встречал селения; наконец, под вечер увидел у самой дороги один двор, обрадовался и подумал: вот здесь попрошусь отдохнуть и переночую, а завтра поутру, что Бог даст: может и погода будет получше.
Подошедши, увидел хмельного старика в солдатской шинели, сидевшего у одного двора на завалине, и поклонился ему, да и говорю: нельзя ли у кого попроситься здесь переночевать? Кто может пустить, кроме меня? закричал старик, я здесь главный! Это почтовая станция, а я смотритель. Так позвольте, батюшка, мне ночевать у вас! А паспорт у тебя есть? подавай законный вид на лицо. Я дал ему свой паспорт, а он держит его в руках, да опять спрашивает: где же паспорт? У вас в руках, ответил я. Ну, пойдем в избу. Смотритель надел очки, прочел и говорит: точно вид законный, ночуй; я ведь добрый человек; вот, поднесу тебе и чарку. От роду не пью, ответил я. Ну, так наплевать, по крайней мере, с нами поужинай. Сели за стол, он, да кухарка, молодая баба тоже довольно выпивши, и меня посадили с собой. Во все время ужина они бранились, укоряли друг друга, а под конец и подрались. Смотритель ушел в сени спать в чулан, а кухарка начала убираться, перемывать чашки да ложки, и доругивала своего старика.
Я, посидевши, подумал, что не скоро она угомонится, да и сказал ей: где бы, матушка, мне уснуть? Я очень устал с дороги. Вот я тебе постелю, батюшка, и, приставивши скамейку к лавке у переднего окна, постлала войлок и положила изголовье. Я лег, да и закрыл глаза, как будто сплю. Долго еще колобродила кухарка; наконец, убралась, погасила огонь, и подошла ко мне. Вдруг все окошко, бывшее в переднем углу, рама, стекла и осколки косяков, разлетевшись в дребезги, посыпались с ужасным треском, вся изба потряслась, а за окном раздался болезненный стон, крик и барахтанье. Баба в испуге отскочила на средину пола, и грохнулась на пол. Я вскочил без памяти, думая, что земля разверзлась подо мною. Вот вижу два ямщика внесли в избу человека, всего в крови, так что и лица его не было видно. Сие еще более привело меня в ужас. Это был фельдъегерь, скакавший переменить здесь лошадей. Ямщик его, не потрафивши верно завернуть в ворота, дышлом вышиб окно, а как перед избою была канава, то бричка опрокинулась, и фельдъегерь, упавши, глубоко расцарапал себе голову об заостренный кол, коим была укреплена завалина. Фельдъегерь потребовал воды, да вина, промыть себе рану, примочил вином, и сам выпил стакан, да и крикнул: лошадей! Я стал около его, сказав: как вам, батюшка, с такою болью ехать-то? Фельдъегерю некогда быть больным, ответил он, и поскакал. Бабу ямщики оттащили к печи в угол без чувств, накрыли рогожкой, сказавши: это ей притча приключилась от испуга; она прочухается. А смотритель опохмелился, и опять пошел досыпать.