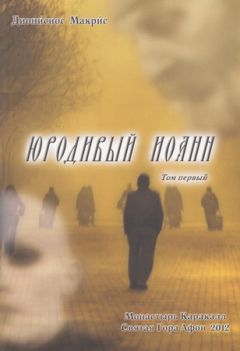2. Предмет теологии, Бог Евангелия в Его деле и Слове, так относится к богопознанию, как Бог относится к человеку, Творец — к творению, Господь — к рабу. Он безусловно стоит на переднем плане, а богопознание лишь может идти следом, подстраиваться под Него и приспосабливаться к Нему. Он, и только Он, делает богословское познание действительным и возможным. Он обязывает, освобождает и призывает теолога осознать присутствие Бога, размышлять и говорить об этом. Никакое априори перед Его лицом недействительно. Поэтому св. Иларий из Пуатье [2]считал: non sermoni res, sed rei sermo subjectus est [3]. Или, если сформулировать то же самое в понятиях Ансельма Кентерберийского [4]: ratio и necessitas [5]богословского познания должны направляться ratio и necessitas его предмета. Но не наоборот!
Разумеется, будучи человеческой наукой, теология, как и любая другая наука, всегда и везде, в свое время и в своей ситуации оперирует взглядами, понятиями, образами, языковыми средствами, которые отчасти достались ей от прошлого, а отчасти возникли заново. Поэтому богословское познание осуществлялось по-разному в эпоху поздней античности, средневековья, барокко, просвещения, идеализма или романтизма. Но ни в какую эпоху и ни в какой ситуации теология не может считать для себя позволительным и тем более обязательным принимать в качестве собственного непреложного закона какие бы то ни было господствующие или претендующие на господство общие мировоззренческие, понятийные, образные или языковые нормы, провозглашаются ли они от имени Аристотеля, Декарта, Канта, Гегеля или Хайдеггера. Теология не может сделать этого не только потому, что за каждой подобной нормой стоят определенная философия и определенное мировоззрение, с чьими концепциями ей пришлось бы мириться в ущерб собственному содержанию. Она не может этого сделать прежде всего потому, что, имея безусловные обязательства лишь перед своим предметом, она призывается им и получает от него способность к всесторонне открытому и подвижному видению, мышлению и речи. Почему бы ей при этом и не пользоваться общепринятыми представлениями, понятиями, образами и оборотами речи, коль скоро они окажутся к тому пригодными, и, значит, спокойно быть «эклектичной»? Но вместе с тем это не значит, что в общепринятых представлениях своей эпохи теология должна усматривать для себя авторитарные предписания. Она должна задаваться вопросом о логике, диалектике и риторике, вытекающих из ее собственного предмета — Божественного Логоса, а следовательно, дерзновенно идти своим путем, вопреки тем мерилам правильности представлений, мышления и речи, которые в ту или иную эпох) принимаются и более или менее торжественно провозглашаются в качестве общезначимых. Прогресса, улучшения в теологии следует ожидать не от покорности духу времени, но лишь — в радостной открытости навстречу и ему тоже! — от непоколебимой решимости познавать, следуя своему закону. Вспомним о том, что было сказано уже в первой лекции о характере теологии как свободной науки. Она проявляет свою свободу в том, что, в противоположность всякой старой ортодоксии, а также разнообразным современным неоортодоксиям, пользуется человеческой способностью к восприятию, суждению и речи без привязки к некоей заранее принятой теории познания. Пользуется с той покорностью, которую сегодня, сейчас требует от нее ее предмет — живой Бог в живом Иисусе Христе, в животворной силе Святого Духа. Абсурдное, ленивое или расплывчатое мышление, извращенная страсть к иррациональному как таковому — credo quia absurdum [6]! — менее всего способны служить предмету теологии и менее всего ей позволены. Напротив, каким бы умом ни обладал и ни пользовался теолог, этого всегда будет недостаточно. Но предмет его науки, тем не менее, по-своему мобилизует его разум и делает это подчас привычным, а подчас и весьма необычным образом. Он вовсе не обязан подстраиваться под «скромного» теолога, наоборот, последний обязан сообразовываться с ним. Приоритет предмета по отношению к его восприятию составляет второй важный критерий подлинного богословского познания, intellectus fidei.
3. Предмет теологии — дело и Слово Божье в истории Еммануила и, соответственно, библейское свидетельство о них — имеет определенный уклон, определенный акцент и тенденцию, определенную и необратимую направленность, которой теолог также обязан, свободен и призван предоставить место в своем познании, intellectus fidei. В действии и речи Бога, — а значит, и в текстах Ветхого и Нового Завета, — выражается некая двоякость, лишь кажущаяся симметричной. Эту двоякость можно обозначить как энергично высказанное человеку Божественное «да» или «нет»; как восставляющее его Евангелие или наставляющий его закон; как обращенную к нему милость или грозящее ему осуждение; как жизнь, к которой он спасен, или смерть, которой он подвержен. Храня верность Слову Божьему и свидетельствующему о нем слову Писания, теолог обязан увидеть, осмыслить, выразить и то, и другое: и свет, и тень. Но именно верность требует, чтобы теолог не упускал из вида, не отрицал и не замалчивал то, что взаимоотношение этих двух моментов отнюдь не подобно симметричным, разнонаправленным и мерным движениям маятника или отношению равно нагруженных, пребывающих в состоянии неустойчивого равновесия чаш весов. Здесь есть Раньше и Позже, Выше и Ниже, Больше и Меньше. Нельзя отрицать, что человеку приходится слышать резкое, ранящее Божье «нет»; но нельзя отрицать и того, что это «нет» пребывает внутри творящего, примиряющего и искупительного «да», обращенного к человеку. Несомненно, что здесь возвещается и провозглашается связующий человека закон, но равным образом несомненно и то, что этот закон обладает Божественным значением и Божественной обязательностью лишь как закон Завета, как образ Евангелия. Очевидно, что здесь объявлен и приведен в исполнение приговор, но опять-таки очевидно, что именно через этот приговор, — вспомним о его решающем исполнении на Голгофском кресте, — осуществляется милость примирения. Нельзя не видеть, что смерть есть последний предел всех человеческих начинаний и свершений, но нельзя не видеть и того, что вечная жизнь человека составляет смысл и цель его смерти.
Итак, здесь нет никакой взаимодополняемости, никакой амбивалентности. Здесь нет равновесия, но имеется предельное неравновесие. И теология отдает должное этой двоякости именно тогда, когда признает господство одного и подчиненность другого. Разумеется, она не должна сводить все, на что есть Божья воля, что Бог делает и говорит, к одному лишь триумфальному «да», обращенному к человеку. Но она и не смеет утверждать, будто Божье «нет» равнозначно и равновесомо Его «да», не говоря уже о том, чтобы ставить «нет» впереди «да», заставлять «да» раствориться в «нет», — словом, ставить светлое в тень вместо того, чтобы освещать темноту. Седьмая глава Послания к Римлянам ни явно, ни тайно не должна быть теологу ближе, важнее и дороже, чем восьмая глава; ад не должен казаться необходимее и значительнее неба. И в истории Церкви выдвижение на первый план грехов, ошибок и слабостей схоластиков и мистиков, реформаторов и папистов, лютеран и реформатов, рационалистов и пиетистов, ортодоксов и либералов (хотя, разумеется, теолог не может и не вправе закрывать глаза на эти прегрешения и замалчивать их) не должно представляться более настоятельной задачей, чем задача увидеть и понять их всех в свете необходимого и обещанного им, как и нам всем, прощения грехов. И безбожие детей мира не должно волновать теолога больше, чем солнце праведности, уже взошедшее как для него, так и для них.
В первой лекции мы назвали теологию радостной наукой. Почему же существует столько откровенно унылых богословов, которые вечно ходят с озабоченными, — если не сказать желчными, — лицами и всегда готовы к критике и отрицанию? Потому, что они не соблюдают этот третий критерий подлинного богословского познания — внутреннее домостроительство их предмета: главенство Божьего «да» над «нет», Евангелия — над законом, милости — над осуждением, жизни — над смертью. Они произвольно превращают это отношение в равенство или даже переворачивают его. Удивительно ли, что в итоге они оказываются в прискорбном соседстве со старым Ж. — Ж. Руссо или с тем достойным сожаления человеком, которому Гете воздвиг памятник в своем «Зимнем путешествии в Гарц», где просил «отца любви» вернуть ему силы. Теолог может и должен — не всегда на поверхности, но всегда в самой глубине — быть довольным человеком. Быть «довольным», согласно доброму старому смыслу этого слова, означает обрести то, чего ему довольно. «Будь доволен и успокойся в Боге твоей жизни» [7]. Если человек не обретает удовлетворения в Боге, что ему тогда делать в общине и в мире? Разве сможет он существовать как теолог? То, что община — сонм потерянных и заблудших, она знает и так, но не знает, — никогда не знает в достаточной мере, — что она есть также возлюбленный и избранный народ Божий и как таковая призвана Его прославлять. То, что мир во зле лежит, он знает и так (сколько бы он вновь и вновь ни заблуждался на этот счет), но не знает, что его со всех сторон поддерживают Божьи добрые руки. Теолог обретает то, чего ему довольно, становится и остается довольным и распространяет довольство также в общине и в мире, ибо его познание, будучи intelletus fidei, постижением веры, имеет такую направленность, какой наделяет его предмет богословской науки.