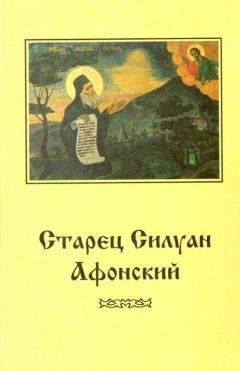Сидя в уединении с четками в руках, я погружался в какое-то тупое оцепенение или в полудрему, не имея сил даже раскрыть глаза. Мне все чаще стали слышаться голоса: «Симон! Симон!» Иногда мне слышалось, как будто кто-то пришел к келье и зовет меня. Откуда здесь зимой могут быть люди? Недоумевая, я выскакивал на порог, но видел только кружащиеся хлопья снега, который мог валить неделями без перерыва. Наконец я просто перестал обращать внимание на голоса, зовущие меня, понимая, что там не может быть никого из людей.
Тогда эти голоса стали донимать меня среди ночи:
— Уходи отсюда, иначе ты погибнешь! — раздавалось почти над ухом. — Убирайся прочь, негодяй! Это наше место!
Неподъемной рукой с последним усилием воли я старался хотя бы перекреститься, и лишь тогда голоса на время умолкали. Среди ночной снежной бури они кричали:
— Прочь, прочь с нашего места! Мы развалим твою избушку!
И я не верил сам себе: келья сотрясалась так, словно ее трясли с четырех углов. Балки скрипели, бревна, казалось, ходили ходуном. В спешке, теряя спички, я зажигал свечу — но все оставалось по-прежнему. Это было только наваждение… За окошком стояла серая мгла беззвездной ночи. Тихий зеленый огонек лампады кротко светился в темноте, и на душе отлегало от безпричинных страхов. «Господи, если все эти мучения сокрушат меня, — говорил я, — при-ими их как мое покаяние…»
Спасительное напутствие старца пришло мне на помощь: «Если не сможешь молиться, пиши молитву в тетради». Благодарение братьям моим, которые принесли мне с продуктами толстые общие тетради! Мелким убористым почерком я начал записывать в них молитву за молитвой, лист за листом, и чем больше становилось исписанных листов, тем спокойнее становилось на душе. Само присутствие рядом молитвенной тетради словно излучало некий мир, покой и защиту. За зиму я исписал три общие тетради и держал их рядом с изголовьем на столике, как свою защиту и поддержку. Когда я перелистывал лист за листом, где находилась только Иисусова молитва, слова ее как будто оживали и своей благодатной силой пробуждали оцепеневшую и ослабевшую от духовных браней душу.
Тем временем декабрьское солнце стало чуть повыше подниматься в полдень над Бзыбским хребтом, а на закате садилось уже не напротив кельи, а сдвинулось немного дальше на запад. Снег периодически прихватывало твердым настом. Это позволило совершать небольшие прогулки, без опасения провалиться в снежные ямы. Заговорили и зашумели засыпанные снегом водопады, и добавилось новое искушение. Ночью их не было слышно, а днем, когда я пытался молиться, звуки водопадов стали складываться в одуряющие монотонные мелодии, подобные шаманским заклинательным ритмам, напоминая дискотеку. Как будто толпы бесов во всю мощь извлекали из каких-то непонятных инструментов жуткую музыку с воплями и плясками. Порой доносились многочасовые барабанные неистовые ритмы, словно они выстукивали их своими копытцами. Затем шаманская музыка резко менялась, и начинали звучать изумительные скрипичные концерты, пленяющие слух и ум своей красотой. Если я позволял себе рассеяться, то эта дьявольская музыка завораживала ум и я не замечал многих часов, потерянных в этом музыкальном одурении.
Понимая, что слушать эти мелодии опасно, я решительно настроился не поддаваться музыкальному гипнозу и так постепенно научился не погружаться в колдовские ритмы и мелодии. Как только это произошло, шум водопадов вновь стал обычным фоном прибывающего весеннего тепла. Едва я справился с пленением ума музыкой падающей воды, как добавилась новая напасть. Сны стали пленять ум с такой силой, что увлекали его подобно нескончаемым сериалам. Удивляло в этих снах то, что определенные лица и события могли переходить из одного сна в другой, продолжая свой фантастический сюжет. Иногда сновидения превращались в удивительное повествование из чьей-то жизни, в которой я тоже принимал участие, сознавая в то же самое время, что не имею к этим чужим приключениям никакого отношения.
Сны становились все более красочными и увлекательными, затягивая мое любопытство в невероятные истории и происшествия, переходящие из одного сна в другой. Однажды я обнаружил, что во сне свободно говорю по-английски в чужой стране с группой молодых ребят, прекрасно понимая их ответы и задавая свои вопросы. В конце беседы я неожиданно перешел на русский, и мои собеседники сразу же легко перешли на этот язык. Это вызвало во мне недоумение, и я спросил у одного из «иностранцев» из моего сна:
— А вы что, на русском языке тоже можете говорить?
И услышал ответ:
— А мы на всех языках говорим!
И с хохотом они исчезли. Такой сон заставил меня призадуматься: не хотелось бы застрять в таких сновидениях, где меня обманывают жалким образом. Собрав все силы, я твердо наказал себе спать как можно меньше, чтобы не попадать в уловки сновидений. Пришлось сделать пугающий своим реализмом вывод: сон — это сильнейшее оружие диавола, которым он удерживает душу в рабстве.
Для того чтобы решительно противостоять сну и не становиться безпомощной жертвой сновидений, я взялся подолгу читать среди ночи книги святых отцов при свете маленьких самодельных свечей, что привело со временем к ухудшению зрения. Стараясь не спать, я подолгу сидел с четками, опершись спиной о стену. Побеждаемый дремотой, я сильно застудил спину. Когда печь остывала, тонкие сквозняки из щелей по углам кельи продували меня насквозь, и я простужался так, что по утрам не мог разогнуться.
Помимо борьбы с немощами и бесовскими наваждениями добавилась сильная печаль об оставленном отце. Как он живет без меня? Возможно, он болеет и ему некому оказать помощь? Или же он голодает и у него нечего есть? А если он замерзает в доме и никто не приходит его проведать? Печальные помыслы об отце стали переходить в скорбные сновидения, в которых он жаловался мне, как ему плохо без меня. Несколько раз мне снилось, что отец уже умер, и от горя сердце мое разрывалось на части. Много раз я в раздумье выходил на порог, чтобы бросить уединение, попытаться пройти границу и добраться в Сергиев Посад, где, возможно, мой отец безпомощно умирает или, не дай Бог, уже умер. Но сильные снегопады, а затем и метели перекрывали все возможности бросить келью и устремиться на встречу с отцом.
Один навязчивый помысел принялся досаждать мне и изводить душу. Слыша во время метелей скрип пихты над своей головой, я стал впадать в дикие опасения, что буря свалит дерево и оно рухнет на мою келью. Под завывания ветра я выбегал наружу — верхушка пихты угрожающе раскачивались, а в каждом скрипе дерева мне слышался ужасающий треск его падения. Я крестил пихту снова и снова, не чая дождаться конца зимы и остаться в живых. Насколько страхи мои были безосновательны, стало понятно из того, что именно эта пихта выстояла во время страшной осенней бури, когда валились другие деревья.
В такие затяжные периоды уныния неожиданно поддерживали мой слабеющий дух стихи, когда молиться становилось совсем невмоготу. Внимание переключалось на другое — и боль уныния немного слабела, а иногда даже забывалась. Так я постепенно начал вести стихотворный дневник своих невзгод, излагая в нем то, что хотел бы сказать на исповеди, которой, к сожалению, был лишен в уединении. Но не всегда помогали и стихи, поэтому в безысходности уединенной замкнутой жизни сердце поневоле устремлялось к Богу, находя в Нем единственную опору и утешение от всех скорбей.
* * *
Отпели заливисто птицы
Мне песнь похоронную.
Вновь позолотой зарницы
Сияют исконною.
Дух мой в борении тяжком,
Словно под ветром, шатается.
Сердце железное, гордое,
Болью объятое, плавится…
К крайне отчаянному положению в борьбе за молитву и духовную жизнь добавились внешние страхи. До февральских оттепелей мне представлялось, что в зимнем лесу я живу совершенно один, а звери не могут появиться здесь из-за глубокого снега. Радуясь погожим солнечным дням, я стал совершать небольшие прогулки к скальным обрывам, откуда можно было любоваться заснеженным Кавказским хребтом. Там, вдоль обрывов, к моему крайнему удивлению, сродни удивлению Робинзона, я обнаружил длинные цепочки следов, похожих на собачьи. Они пересекали лесные поляны в двух направлениях: одни следы уходили в верховья реки, а другие шли с верховий вниз по ущелью. Собак здесь быть не могло, и я знал, что у волчьих следов, в отличие от собачьих, два средних когтя всегда выдаются вперед. Я исследовал найденные следы, и у меня не осталось никаких сомнений в том, что это волки. Совершать прогулки по полянам стало опасно. Пришлось большей частью сидеть в келье, слушая по ночам заунывный волчий вой, несущий гибель всему живому.
Удручаемый безпрерывными скорбями и находясь в полном отчаянии от своей немощи, я вспомнил благословение отца Кирилла: «Когда будет трудно в уединении, служи литургию». Робко и неуверенно приступил я к своей первой литургии в Рождественский пост. Когда мерцающий свет свечей озарил скромные церковные сосуды, которые подарил мне батюшка как наследие Глинских пустынников, и благоухание ладана наполнило келью, слезы невольно полились из глаз. Невыразимое счастье служить литургию в горах под Рождество переполнило мое сердце. Заливаясь слезами благодарности к Богу и своему старцу, я причастился, не сознавая ни времени, ни зимнего заточения, ни самого себя. После нескольких литургий душа и сердце приобрели крепость и словно утвердились в стойкости. Брани и искушения перестали быть такими жестокими как прежде. Каждая литургическая молитва стала для меня лучом спасения, неожиданно осветившим мою отчаянную жизнь. Если бы не литургии, очень трудно было бы устоять перед тяжелым и изнурительным натиском зла. Этот первый опыт служения Божественной литургии в горах показал, что только с нею моя слабая душа осталась жива и смогла многими скорбями принести покаяние Богу и начать в Нем новую жизнь.