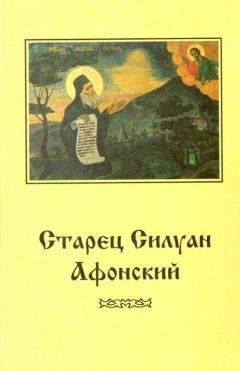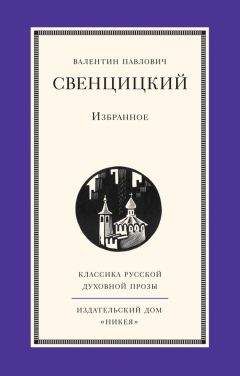— Нет, о. Исаакий, — для меня это совершенно невозможно.
Мы остановились.
— Почему? — спросил о. Исаакий и посмотрел на меня в упор.
— Почему? Да прежде всего потому, что я хочу жить в миру. А разве по-вашему это плохо?
— Нет, не плохо… Но здесь лучше…
И снова мы пошли, не торопясь, по аллее теперь уже прямо на поляну, к келье.
— Вам надо закусить, — сказал о. Исаакий, — потом отдохнете немного, и прочитаем вечерню.
Мы вернулись как раз вовремя. Недалеко от кельи о. Сергий устроил «летнюю кухню». И когда мы подходили, о. Иван нес из этой «кухни» вареный картофель, а о. Сергий «соус» — лук, поджаренный в постном масле.
— Пожалуйте кушать, — сказал о. Иван, — картофель сварили, да еще с соусом.
— Это я в монастыре научился, — отозвался о. Сергий.
— А завтра знаете, чем он угостить вас хочет?
— Наверное, пышками? — засмеялся о. Исаакий.
— Что же! — опять весело отозвался о. Сергий, — и испеку. Я пышки хорошие делаю… Покушаете моего рукоделья…
— Что и говорить, настоящий повар, — смеется о. Иван.
Мы входим на терраску. Там уже накрыт маленький столик. О. Исаакий говорит:
— Давайте, помолимся…
И все мы поворачиваемся на Восток, к темной тенистой опушке леса, за которой яркими зубцами блестят освещенные горы…
Часа в четыре началась вечерня.
Я стоял, слушал и невольно сравнивал эту службу со службой в кельи у о. Никифора.
Там все время чувствовалась «мистика службы», что-то сложное, напряженное… Здесь, напротив, просто, спокойно, «трезво».
За аналоем стоял о. Сергий. Читал истово. «Возгласы» внушительно и спокойно произносил о. Исаакий. Во всей службе было что-то значительное, чинное. Вслушиваясь в эту службу, не могло придти в голову, что вот за окном стоят бесы, которые «не смеют» войти в келью. На душе было хорошо, спокойно, уверенно, — но не было того восторга и умиления, которые неожиданно охватывали душу на вечерне у о. Никифора. И нельзя сказать, что то было лучше, или это хуже. Просто совсем разное. Два различных склада. Два несхожих друг с другом религиозных типа.
После вечерни мы сидели на «заваленке» кельи и разговаривали до поздней ночи.
Вечер был чудесный. Облака прошли и перед нами открылись самые дальние вершины гор.
Как только зашло солнце за горы, — лес потемнел и, как рамой, обвел черными зубцами бледно-розовое, яркое небо. А поляна угасала медленно, точно нехотя. Долго в вечерних сумерках играли на ней последние отблески зари.
— Нас, пустынников, осуждают за самочинное спасание, — говорил о. Исаакий, — а не знают того, что и в монастырях спасание тоже самочинное.
— То есть, как? — спросил я.
Рис. Вид из кельи о. Сергия
— Без руководства… Теперь вся монастырская жизнь превращена в послушание или, другими словами, в хозяйственные заботы, в мирские дела. «Послушание», как необходимый путь духовного развития, мы не отрицаем. Но в монастыре послушание совсем не то: это просто та или иная должность, которую необходимо исполнять в сложном монастырском хозяйстве. «Послушание» дается не сообразно с душевным состоянием послушника, а сообразно с хозяйственной надобностью монастыря… Конечно, живут в монастыре и духовной жизнью, но больше тайно, келейно. Стараясь, чтобы не заметили окружающие, — а то помешают. Вот и выходит «самочинное спасание»…
— Почему же могут помешать? — удивился я.
— Даже обязательно, нарочно помешают, — горячо вступился о. Сергий; очевидно, это было его больное место, — в монастыре, как только заметят в послушнике ревность к молитве, к духовной жизни, — сейчас «послушание!» Что, мол, это за святой выискался, а ну-ка его куда-нибудь на огород, или на плантации, пусть свою «святость» разгонит… В мою бытность на Новом Афоне сколько молодых послушников перед глазами прошло. В монастырь заходили, как ангелы, а пройдет три, четыре года — все послушание, да послушание, никакого руководства в духовной жизни, никакой заботы об этом, никакого поощрения; гоняют с виноградников на скотный, со скотного в пекарню, — и вот делается человек, совсем мирской, — с горечью сказал о. Сергий, — надо бы на первом месте церковь, а на втором послушание, а им лишь бы хозяйство хорошо шло, да работник хороший был, а церковное больше даже мешает им…
— Да, это так, — снова подтвердил о. Исаакий, — слов нет, и в монастырях есть люди духовной жизни, но жизнь их сама по себе идет, чаще всего монастырь об ней и не знает. Зато и случается так: выбьется человек из своей колеи и некому его поддержать. У нас на Новом Афоне такой случай был:
Лет двадцать пять жил там один монах. К молитве очень был ревностный. Я близок с ним был и знал, что жизнь он ведет духовную, правил держится хороших, — ну, словом, настоящий монах. Послали его по делам в Петербург. Раз, два, — пришлось пожить там сначала немного, потом побольше. И, вот, рассеялся человек. Никак не соберет себя. Дальше больше, дальше больше… Через несколько лет снова пришлось жить на Новом Афоне безвыездно. Но прежнего вернуть не может. И впал в отчаяние. Раз прихожу я к нему, — он мне все это и рассказывает. Двадцать пять лет, говорит, работал над собой и что же теперь, опять все сначала? Ничего не осталось! Неужели же эти годы прошли зря? И что теперь делать мне? И сил уж нет прежних, и ревности нет прежней… Вся жизнь прошла. Скоро умирать надо. Когда же я теперь снова пройду весь путь. — Ничего не поделаешь, — говорю ему: — коли уж такое несчастье случилось: надо начинать снова. А уж остальное, как Господь… Может силы даст, может жизнь продлит… И вот послушался он. Стал помаленьку, помаленьку налаживаться… А тут вскоре и умер. Умер ничего, покойно, хорошо…
— В монастырях много людей страдает, да никто этого не видит, — тихо сказал о. Иван.
— Трудно, а для иных и гибельно в монастыре жить, — снова с горечью проговорил о. Сергий.
— А у вас никогда не было желанья пойти в монастырь? — спросил меня о. Исаакий.
— Было… Лет семь тому назад…
— Если можете, расскажите…
— Да… то, что случилось со мной, довольно характерно для монастырской жизни… Это было семь лет тому назад. Со мной случилось большое несчастье. Я, как говорится, запутался. Запутался и нравственно и житейски… Внутренняя жизнь моя свелась к полному и, как я думал, окончательному сомнению в самом себе. Мне казалось, что все ложь, и вокруг меня, и во мне самом. Я слишком боялся смерти, чтобы решиться на самоубийство. И вот в полном отчаянии бросился в монастырь. Помню, зимой приехал я в один из лучших монастырей. Вид у меня был довольно подозрительный. Я ушел из своего дома осенью, как беглец, — в чем был. Бессмысленно метался из одного места в другое, — из Москвы в Рязанскую губернию, из Рязанской в Калужскую. И теперь, зимой, явился в монастырь в осеннем пальто и летней шляпе. Меня, вероятно, приняли или за помешанного, или за пропойцу, спустившего все свое достояние. Не хотели пускать в гостиницу. И, наконец, после долгого совещания пустили в какую-то полутемную комнату под лестницей. Не знаю, барская ли спесь во мне заговорила, или другое что, но не смотря на то, что я до такой степени поглощен был своим душевным горем, что не замечал ни холода, ни легкого пальто, ни летней шляпы, — здесь все заметил и был страшно оскорблен. И вот точно подтолкнул меня кто. У меня были с собой довольно большие деньги. И как только монах ввел меня в каморку под лестницу, я вынул и дал ему пачку денег. Монах на мгновенье как бы остолбенел. Потом быстро распахнул дверь. Кого-то крикнул. И буквально извиваясь от поклонов, стал звать меня во второй этаж. Это было страшно и отвратительно. Но случись что-нибудь подобное теперь — я отнесся бы иначе. Я понял бы, что один скверный монах ничего не доказывает. Но тогда — это подействовало на меня, как удар палкой по больному месту. Я буквально, как сумасшедший, выбежал из монастырской гостиницы и опомнился только на железнодорожной станции за несколько верст от монастыря… Конечно, я был неправ. Нельзя придавать значение такой мелочи. Но когда в душе нет ни одного живого места — не рассуждаешь… Оглядываясь назад, я вижу, что Бог спас меня. И злой монах оказался для меня добрым гением: какой же я монах в самом деле. Ну, а тогда очень тяжело было…
— Да, — проговорил о. Исаакий в раздумье, — много больших соблазнов в монастыре…
И повернувшись ко мне, он долгим и внимательным взглядом посмотрел на меня, точно стараясь рассмотреть что-то в темноте.
— Оставайтесь у нас, — сказал он, — здесь вам будет очень хорошо.
— Мне и в миру хорошо, — ответил я, — уходить из мира по-моему можно только при одном условии: когда человек чувствует, что мир для него гибель, а монастырь спасение.
— Каждый на своем месте должен быть, — решительно произнес, все время молчавший, о. Иван.