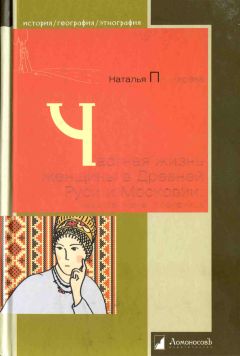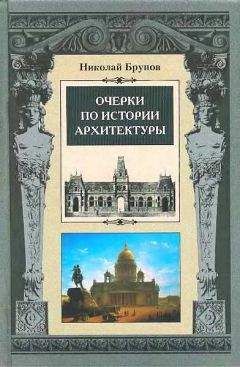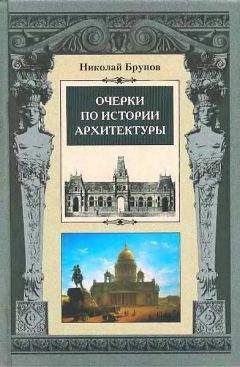«Благочестивому» медведю из жития Никандра противостоит «грешный» медведь из жития северорусского подвижника Трифона: «Преподобному Трифону в келии своей устроившу квашню ко испечению хлебов и некая ради потребы изыди из келии; тоща в келию прииде великий медведь, опроверже квашню и начат уготованное тесто ясти». Конечно, медведь проявил себя в данном случае более «грешным», чем никанд- ровский медведь. Он не просто сотрясал жилище святого, но покусился на его квашню, чем и показал себя недостойным благословения «Святый же прииде к келии и, видя зверя, глагола ему: Исус Христос, Сын Божий, Бог мой повелевает ти: изыди из келии и стань семо кроток. Зверь же изыде, пред ногами преподобнаго ста недвижим». Тут бы и отпустить медведя с миром, как сделал Никандр. Трифон поступил с медведем, как с грешником: «Преподобный же вся велие древо, бияше зверя, рече: во имя Исус Христово даю ти многи раны, яко грешному. И наказав завеща зверю близ келии и лавры впред не пакостити и отела в пустыню»[164].
В житийной повести о Сергии Радонежском медведь изображается как частый гость святого, нетерпеливо, но упрямо ожидающий, когда тот положит ему на пень кусок хлеба.
5–463
Медведь в житийной литературе напоминает популярнейший в русских народных сказках образ этого животного. Сюжетом первой из записанных в 1525—1526 гг. русских народных сказок является помощь медведицы поселянину, оказавшемуся в беде. Различие сказочного и житийного жанров делает еще более выразительными моменты их сходства. Добавим, что и образ медведя в композиции Андрея Рублева «Страшный суд» также не лишен сказочных черт, будучи вместе с тем поразительно правдоподобным.
Анималистический элемент житий — одно из свидетельств их связи с народным мировоззрением, бытом, обиходом жизни. Не только с народным мировоззрением на уровне фольклорного сознания, но и на путях эволюции к христианской форме сознания. Об этом свидетельствуют следующие наблюдения.
Однажды уже знакомый нам Никандр обратился к некоему Иосифу, пришедшему к нему «ползы ради душевныя»: «Чадо Иосифе, несть у меня кота, но сотвори ми послушание, сыщи ми кота». На вопрос Иосифа: «Где такову аз вещь обрящу тебе угодну?» — получает адрес: «Есть у Спасского дьякона в Заклиньи». Иосиф, принимая поручение, справляется: «Ты у него просил ли сего?», но святой на то и святой, чтобы проявилась его прозорливость: «аз бо и во образ его не видах…» Иосиф отправляется в путь, пообещав, что завтра же принесет кота святому. Но тот предрекает Иосифу, что он и на четвертый день не вернется и вообще не выполнит поручение, как этого требуется. В самом деле, «по наносу дияволю», Иосиф, получив кота у дьякона, не спешит с ним к святому, а возвращается в свой дом и там проводит три дня, посадив кота «в темне месте и не даде ему ясти и пити». Лишь на пятый день Иосиф пришел к святому и услышал: «Иосифе, почто кота сего в темницы смиряеши 3 дни и дома пребыл еси?» Несмотря на укор, Иосиф опять не следует предписанному святым. Коща же Иосиф вновь поступает не так, как ему велено, святой больше не тратит слов по–пустому: «И се невидимою силою некоею похвати святый Иосифа созади и глагола трижды: Иосифе, три ж что еси неповеленное твориши». Тоща‑то Иосиф пришел в разум, раскаялся, был прощен, получил благословение и «отиде в дом свой радуяся»[165].
Соответствующий рассказ, как и следовало ожидать, имеет идейную нагрузку: служит прославлению прозорливости святого. Но это не должно заслонять другой стороны рассказа, в свою очередь имеющей идейную нагрузку: любовное отношение к животному как представителю «меньшой братии» человека. Служила ли эта «другая сторона» своего рода ключом к сердцу простолюдина, неравнодушного к животному миру, чтобы вызвать его доверие к святости подвижника? Наиболее вероятно, что в данном, и во всех других однородных примерах святые и крестьяне говорили на одном и том же языке: если от крестьянина требовалось доверие к святому, то и святой должен был разделять мир интересов, понятий, представлений, образов крестьянина.
Животные, какими они предстают в житиях, иногда наделялись большей благочестивостью, чем их хозяева. У какого‑то поселянина пропал мерин. Поселянин, как и упоминавшийся выше крестьянин Симеон из жития Никандра, скорбел об утрате. Но этот поселянин, видимо, был побогаче Симеона или же очень привязан к животному. Во всяком случае он пообещал отдать мерина в дар Соловецкому монастырю, лишь только бы сыскался. Чудо не замедлило свершиться: мерин в тот же вечер вернулся к хозяину. Поселянин пожалел о скоропалительном обещании, однако и нарушать его не хотел. В то время село посетил соловецкий игумен Алексей. Поселянин предложил ему вместо лошади деньги. Тут мерин и показал благочестивую прыть: вырвался из рук, побежал: «И не вниде ни во един двор, но идеже игумен Соловецкаго монастыря обитая, ту и прибеже, и скоро вниде и ста с монастырскими конями при яслех». Следует сентенция: «Аще и нехотящим нам, но Бог сия приводит, и бессловесный сей скот сам собою хощет служити во обители преподобных»[166]. Правомерно видеть в этом рассказе назидание, целью которого являлось преумножение монастырского богатства. Это не отменяет убедительности сентенции для «поселян», на движимую собственность которых взирали монастырские власти: наличие элемента благочестия и у «бессловесного скота». В свою очередь приведенный рассказ содержит и живую зарисовку быта и нравов населения, повседневной прозы жизни, в которой неизменно могло найти место чудо.
Другая сходная ситуация: некий Федор, живший близ реки Онеги, решил обзавестись мерином: «случися жребя свое скопите, сиречь исхластити», но «оттоле жребя его начать болезновати, и отнюдь ухуждаше». Животное погибало: «и уже приблизися снедь псом и пьтицам быт и». В этой крайней обстановке Федор дал обет: «аще оздравеет жребя наше, дадим его в монастырь на службу братии». Чудо произошло: «и израсте конь добр и борз», но Федор (по наущению дьявола, как объясняется в житийном рассказе) заколебался и под нажимом неких детей боярских продал им коня. Последовало новое чудо: Федор тяжело заболел: «лице бо ему превратися назад и гортань скривися на едину страну». Федор погибал тяжелее, чем жеребец, которого неудачно оперировал. На утро Федор исполнил обет и «болезни в нем ни следа обретеся»®[167]. В этом случае подвергается испытанию благочестие не коня, а его хозяина. Но важно, в какой только обыденной обстановке ни происходит чудо. Условия чуда самые ординарные, как ординарны и его земные агенты — святые. Да и чудо манифестируется в зримых и наглядных материально–чувственных проявлениях. Чудесная кара, постигшая человека, не отдавшего лошади в монастырь: «лице бо ему превратися назад и гортань скривися на едину страну», — сделала его похожим на бесов, какими они изображаются в житийных повестях.
Болезни, от которых избавляют святые, обрисованы в том же круге воззрений — они и предельно отелеснены, и одновременно сверхъестественны, как порождение бесовских сил. Отелеснены и бесовские силы — бесы черны, мохнаты, уродливы, действуют с помощью «крючов» и веревок. И болезни, насылаемые ими на человека, предметны, зримы, имеют объемы — нечистые тела, внесенные нечистою силою.
Некая Мария, находившаяся при смерти от «чревной болезни», воззвала к Троице и помощи святого Трифона. К больной явились монахи–целители, держа нож, дабы разрезать ее утробу. Казалось, целители и нож могли быть представлены спиритуалистическими эквивалентами, что соответствовало бы христианским нормам. Но нет, иными были категории мышления как святых, так и их почитателей. Под стать представлениям о чудесных целителях, которые не могли обойтись без «ножа», оказалась и сама «болезнь». Она была не излечена, а извлечена: «И изъят болезнь ея, образом и твердостию подобно древу, и паки резаное зашиста, и поведе жене изъятыя болезни коснутися. Она же правая руки перстом коснуся, и на том персту ста вал, подобно огурцу»[168]. Целители сказали Марии: «Имей веру ко св. Троице и смиренных Трифона и Иону призывай», — и стали невидимы[169]. Под видом монахов и следует разуметь «смиренных Трифона и Иону», изъявших из чрева Марии «болезнь», подобную «древу», не забывших и наложить шов.
Другой пример. Некто Назарий обращается к святому с мольбой об исцелении. Святой просит: «Покажи ми недуга своего болезнь. Онже ему показа и не можеше срачицы своея отяти от телеса своего, прилепела бо бе к телеси его: и огради святый недуг крестообразно и отпусти его (Назария. — А К.) в келию свою». Святой проводит ночь в молении о Назарии, и тот «на утри же воста здрав бысть, недуг же его отпаде от тела его из срачицею вкупе, яко чешуя»[170]. Здесь то же самое представление о болезни, как и в случае с Мариею.