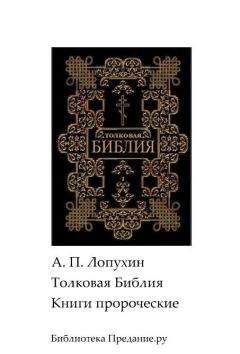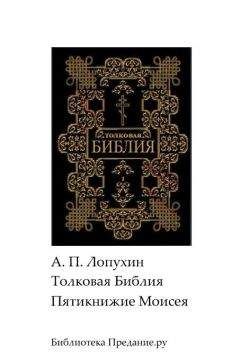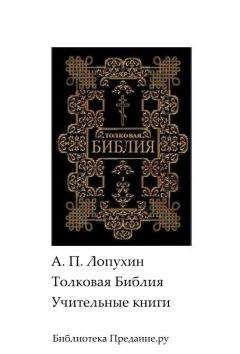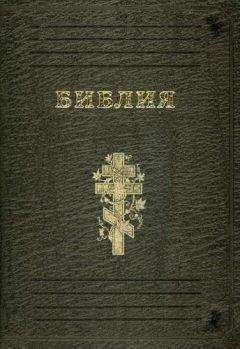Из Ефеса апостол, по-видимому, отправился в Македонию, побывал в Коринфе и оттуда посетил вместе с своим другим возлюбленным сотрудником, Титом, остров Крит или Кандию. На южных берегах этого острова апостолу уже пришлось побывать во время короткой стоянки того александрийского корабля, который потерпел полное крушение у острова Милет. Можно бы думать, что тогда же апостолом народов посеяны были семена христианства на этом острове; но так как кратковременной остановки в «Хороших Пристанях» было слишком недостаточно для этого, то вероятнее предполагать, что первые семена христианства занесены были сюда теми критскими иудеями, которые слышали чудесную проповедь ап. Петра в праздник Пятидесятницы.
Критяне не пользовались доброй славой, и даже их соотечественник Эпименид сочинил о них колкую эпиграмму, которая гласила: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые»; поэтому неудивительно, что христианство у них не произрастало с таким успехом, как было в других местах. Оно скоро смешалось с различными местными иудейскими суевериями, и в самой церкви начались неурядицы. Чтобы устроить там церковные дела и поддержать истину христианского благовестия, апостол оставил в Крите Тита, рукоположив его так же, как и Тимофея, во епископы. Тит был также одним из самых преданных и возлюбленных членов благородного кружка друзей и учеников ап. Павла. Так как он был грек по рождению, то ап. Павел, обращением которого он был, брал его с собой в Иерусалим во время того достопамятного посещения, которое закончилось признанием свободы язычников от ига Моисеева закона (Гал 3; Тит 1:4). Тит находился в особенно близких отношениях с Коринфом, в который апостол и посылал его три раза во время беспорядков в этой легкомысленной общине (2 Кор 7–8). Та теплота, с которой ап. Павел всегда говорит о нем как о своем брате, сотоварище и сотруднике, а также тоскливое беспокойство, которое делало его положительно несчастным, когда ему не удалось встретить его в Троаде, показывают, как он дорог был апостолу в качестве помощника в его великих апостольских делах.
Чтобы поддержать его в трудных обязанностях возложенной на него должности, апостол вскоре по отбытии с Крита написал к нему послание, наполненное, как и послание к Тимофею, различными наставлениями, в которых он мог нуждаться при прохождении своего епископского служения во вверенной его управлению церкви. Послание это известно под названием «Послания к Титу». В нем апостол между прочим предостерегает Тита от разных лжеучителей и наказывает ему «обличать критян строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины» (Тит 1:13–14). Как апостол раньше наставлял Тимофея, так он наставлял теперь и Тита – «удаляться глупых состязаний и родословий, и споров, и распрей о законе; ибо они бесполезны и суетны». Между прочим в этом послании впервые говорится о «еретиках» в точном церковном смысле этого слова, как людях, которые не только порвали с церковью, но и с здравым учением ее. Апостол преподал наставление, как относиться к подобным людям. «Еретика, – говорит он, – после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковый развратился и грешит, будучи самоосужден» (Тит 3:9–11).
Благоустроив церковные дела на Востоке, апостол опять отправился на Запад и на этот раз, по преданию, проник даже в Испанию, куда уже давно устремлялась мысль апостола (Рим 15:24). Этот далекий Иберийский полуостров в то время считался такой же страной чудес, какой впоследствии считалась для Старого Света новооткрытая Америка. Сказочные богатства страны привлекали к ее берегам многочисленных переселенцев и промышленников, и скоро дикая страна с ее жалкими лачугами туземных дикарей покрылась цветущими городами и прорезана была великолепными римскими дорогами. Иберийцы быстро освоились с римской культурой, восприняли римский язык и римские обычаи, и из среды их стали выходить известные мыслители и писатели, каковым был между другими и знаменитый философ Сенека, уроженец испанского города Кордубы. Такая страна представляла богатое поприще и для христианской проповеди, и ее, по преданию, принес сюда великий апостол народов, желавший в точности исполнить заповедь своего Божественного Учителя, повелевавшего идти научить все народы – до края земли.
Пребывание ап. Павла в Испании не только было новым успехом Царства Божия в мире, но и послужило в руках промысла Божия средством сохранения жизни апостола от великой опасности, которой она несомненно подверглась бы, если бы он остался в Риме. Около этого именно времени в Риме разразилась страшная буря, поднятая языческим миром против христианства. Безумство Нерона, который год от года все более превращался в страшное чудовище порока и всякой гнусности, завершилось в десятый год его царствования ужасным пожаром, который в годовщину сожжения Рима галлами вновь превратил столицу мира в груду пепла и развалин. Народ выведен был этим ужасным бедствием из терпения и жаждал мщения. В народе ходила зловещая молва, что виновником страшного бедствия будто бы был сам Нерон, который не только не принимал никаких мер к прекращению разрушительной стихии, но с высоты своей дворцовой башни в полном театральном одеянии, в виду грозного зрелища воспевал взятие Трои. Мало того, после пожарища он не только не предпринимал каких-либо мер к облегчению бедственной участи жителей, но воспользовался пожаром для того, чтобы захватить возможно больше пустопорожнего места, на котором и стал с безумной роскошью возводить себе так называемый «золотой дом», заявляя, что теперь-то он наконец обзаведется помещением хотя сколько-нибудь приличным его человеческому достоинству. Все это невольно содействовало зарождению и распространению подозрения в виновности Нерона в этом ужасном бедствии. Опасность, очевидно, грозила страшная, от которой не могли бы спасти императора никакие силы окружавшей его преторианской гвардии. Нужно было отвратить эту опасность, и Нерон с сатанинским бессердечием свалил всю вину на невиннейших и смиреннейших из людей, именно на римских христиан, с которыми он уже знаком был отчасти из суда над ап. Павлом. Народ жаждал мщения, и лишь только указаны были ему эти его мнимые враги, как обрушился на них с истинно зверским ожесточением и кровожадностью. Сам Нерон стал во главе этого гнусного злодейства, и улицы, только что опустошенные пожаром, обагрились кровью тысячей ни в чем не повинных людей. И к стыду человечества, в этой ужасной бойне невинных людей приняли участие не только чернь, но и (по крайней мере нравственно) просвещеннейшие люди того времени. Повествуя об этом избиении христиан, просвещенный римский историк Тацит не преминул высказать при этом несколько самых гнусных клевет на христиан, о которых он, очевидно, имел лишь весьма смутные представления. «Нерон, – по словам Тацита, – подверг обвинению и мучил самыми изысканными наказаниями класс ненавидимых за свои гнусности людей, которых простой народ называл христианами. Христос, основатель этой секты, был казнен во время царствования Тиверия прокуратором Понтием Пилатом, и пагубное суеверие, подавленное на время, начало возникать опять не только в Иудее, где особенно укоренилось это зло, но даже в городе, куда со всех сторон стекается все ужасное и постыдное и находит себе приверженцев». Высокомерное презрение воспрепятствовало Тациту хорошенько познакомиться с верой и жизнью христиан, и говоря о них, он ограничивается лишь самыми безосновательными обвинениями против них. Он говорит о их учении как диком и постыдном, хотя оно дышало миром и чистотой; он обвиняет их в том, что они одушевлены неискоренимой ненавистью, между тем как основной истиной их учения было всеобщее человеколюбие. «Народ, – говорит он, – назвал их христианами», хотя они, по его мнению, и неповинны во возводимом на них обвинении в качестве мятежных поджигателей, за что их и предавали мучительной смерти, все-таки они в его глазах представляли собой такой класс преступных и гнусных сектантов, которых можно было относить к одному разряду с худшими подонками римского общества. Затем Тацит говорит, что сначала «схвачены были те, кто признавались (в принадлежности к христианству), и затем по их показаниям осуждено было громадное множество их не столько по обвинению в поджигательстве, сколько за их человеконенавистничество». Тут, очевидно, знаменитый римский историк совершенно вторил молве уличной черни и, обвиняя христиан в человеконенавистничестве, явно смешивал их с иудеями, которых он в другом месте обвинял именно в том, что они «враждебны ко всем, кроме самих себя». Но он вместе с тем дает и страшную картину самого гонения. «Для казни над ними, – говорит он, – применены были всевозможные издевательства. Покрыв их шкурами диких животных, их отдавали на съедение бродячим собакам или пригвождали к крестам; бросали в огонь и сжигали после сумерек в виде ночной иллюминации. Нерон предложил для этих зрелищ свои собственные сады и устроил конный бег на колеснице, сам смешиваясь с чернью, в одежде всадника, или разъезжая посреди нее. Отсюда, как ни виновны были жертвы и как ни заслуживали самых худших наказаний, к ним начало проявляться чувство сострадания, так как народ сознавал, что они приносились в жертву не ради общественного блага, а лишь с целью удовлетворить дикую кровожадность единичного человека». Там, где теперь вздымается громадный храм ап. Петра, некогда были сады Нерона. В эти ужасные дни они были запружены торжествующими толпами народа, среди которого в своем легкомысленном унижении скакал император, а по всем сторонам невинные люди медленной смертью умирали на позорных крестах. Вдоль аллей этих садов в темные осенние ночи горели ужасные факелы, под которыми почва чернела и багровела от потоков дымящейся крови: каждым из этих живых факелов был мученик-христианин в своем огненном одеянии. В то же время в находившемся амфитеатре на виду 22 000 зрителей голодные собаки растерзывали на куски некоторых из лучших и чистейших мужей и жен, с гнусной изобретательностью закутанных в шкуры медведей или волков! Так Нерон крестил в крови мучеников город, которому предстояло в течение веков быть столицей целой половины мира!